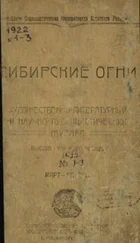— А ты не ходи, — решительно посоветовал Афоня.
— Как не пойдешь?.. Опутал он меня с ног до головы… Опять же староста он… власть!
— Ничего, ничего, мать честна! — возбужденно заговорил Афоня, оглядывая улицу. — Я так думаю: не долго царствовать кровососам! Так или иначе, а кончится же война-то… Кончится и царская власть… Значит, и Валежниковым будет какой-нибудь конец… и Оводовым, и Клешниным, и Гуковым… Все полетят в тартарары!
Теркин опасливо огляделся и с усмешкой сказал:
— Ты что… пророк? Аль сорока на хвосте принесла?
— Не пророк я, и сорока ничего не принесла мне, — ответил Афоня и, подойдя к Теркину, произнес: — А ты попомни мое слово: камень на гору люди поднимают, а с горы-то его только чуток толкни, он сам свалится…
Теркин безнадежно махнул рукой и, ничего больше не сказав, пошел прочь.
Афоня посмотрел ему вслед и, вздохнув, подумал:
«Да, не шибко прыткий Теркин… Много еще таких… Ну, да ничего… Придет пора… По-другому запоют и такие…»
Он подошел к своему плетню, принялся за работу и вновь замурлыкал песню.
Много работы в эту пору было и у баб белокудринских: они отпаивали телят и ягнят, сажали на яйца гусей и уток, расстилали на солнце холсты, натканные за зиму, помогали мужикам на гумнах и в уходе за скотом.
Суетливо работали белокудринцы перед пахотой и строго соблюдали великий пост: ели соленые грибы, картошку да кислую капусту. По вечерам усердно молились богу — и кержаки и мирские. Изредка собирались к Авдею Максимычу Козулину послушать священное писание. Тревожно поглядывали на дорогу, идущую в урман по направлению к волости: одни ждали с войны покалеченных мужиков, другие боялись, как бы опять не приехал урядник со стражниками да не забрал бы последних парней на войну; богатеи, как огня, боялись налета разных уполномоченных, забиравших по дешевке всякое продовольствие и оставлявших взамен того почти ненужные в деревне бумажные деньги.
А молодежь белокудринская и в конце великого поста гулеванила.
Андрейка Рябцов да Павлушка Ширяев, словно чумные, бегали по деревне. Лишь только управлялись с работой, собирали парней и девок — до полуночи ватагами хороводились на деревенской улице, либо на посиделках плясали.
Павлушка давно уже позабыл про Маринку Валежникову и про других девок; словно привороженный, крутился около Параськи.
Но чудная была девка Параська. При народе не особенно ласково обходилась с Павлушкой. Когда не вовремя налезал он к ней с обнимками да с поцелуями, так увесисто опускала свою руку на Павлушкину спину, что он сгибался от ее удара, а парни и девки со смеху покатывались:
— Вот так обняла Парася…
— Вот так погладила!
— Ха-ха-ха!..
Зато наедине с Павлушкой перерождалась Параська. Словно подменял кто девку. Не могла Параська наглядеться на миленка белокурого. Несчетно раз целовала его розовое лицо, целовала его белые кудри и голубые глаза и, предчувствуя разлуку с ним, пьяным голосом говорила:
— Теперь хоть веревки вей из меня, Павлуша… Дороже жизни ты мне!.. Ведь не мил мне белый свет, когда тебя около меня нет.
И Павлушка, охваченный весенним угаром первой любви, как пьяный, говорил:
— И я, Парасинька, не пил бы да не ел, все на тебя бы глядел, касаточка…
Когда гуляли они по вечерам за гумнами, снимал с себя Павлушка черный свой полушубок, а на свои плечи надевал дырявый армяк Афони, укутывал в полушубок Параську, обнимал ее и ласково нашептывал:
— Парасинька!.. Краля ты моя ненаглядная!.. По гроб жизни я твой…
Тискал в объятиях Параську, целовал и приговаривал:
— Во как! Солнышко ты мое… голубка моя…
Оба сгорали в любовном огне и не думали о том, что будет с ними завтра…
Примечала бабка Настасья любовный Павлушкин угар. Но примечала и другое. Видела, что сразу две девки льнут к Павлушке. Но не обо всем еще догадывалась. Знала, что сын и сноха уже приглядываются к богатой Старостиной дочке. Знала и то, что дед Степан недолюбливал богатого старосту, а сноха Марья, словно назло свекру, большую дружбу повела с Ариной Лукинишной — женой старосты: из-за всякого пустяка бегала к Арине Лукинишне, на всю деревню расхваливала Валежниковых. В угоду Кержачке-старостихе сноха Марья даже двумя перстами молиться стала. Понимала Настасья Петровна, что все это ради Павлушки делается. Самой Настасье Петровне больше по нраву была краснощекая, черноглазая, крепкая и стройная Параська, дочка Афони-пастуха. Но боялась Настасья Петровна крутого нрава снохи. Потому и не вмешивалась в ее дела. Готова была примириться с женитьбой Павлушки на Маринке Валежниковой, если не возьмут Павлушку в солдаты до срока и не угонят на войну. Не об этом горюнилась Настасья Петровна… так думала: «чему быть, того не миновать». Смотрела на гулеванье Павлушкино и по-прежнему ворчала на внука:
Читать дальше
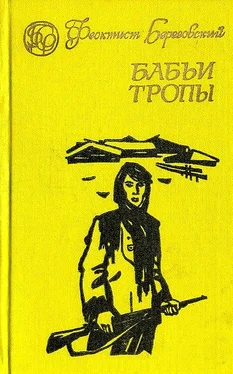


![Михаил Барщевский - Счастливы неимущие (Евангелие от Матвея) [Судебный процесс Березовский – Абрамович. Лондон, 2011/12]](/books/29215/mihail-barchevskij-schastlivy-neimuchie-evangelie-ot-thumb.webp)