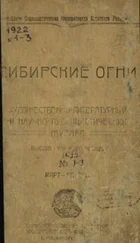«По всему видать, ваше преосвященство, что у вас тут: каков поп, таков и приход…»
Да вспомнил Степан слова брата Игната, которые тот сказал ему на прощание, провожая из своей кельи, после той пирушки:
— Язык-то прикуси, Степан. Помни, сболтнешь одно слово где-нибудь и голову потеряешь. За такую болтовню здесь жизни лишают человека…
Вспомнил это Степан и, охваченный страхом, действительно язык прикусил.
Стоял сейчас. Слушал настоятеля и угрюмо молчал.
И только по дороге из монастыря он раздраженно проговорил:
— Жди от них, сукиных детей, управы… Станут они монахов судить… Как же!.. Все они гулеваны, а не угодники, язвом бы их язвило…
Немного помолчав, Степан добавил:
— Тоже… владыка!.. Пустили козла в огород капусту стеречь… Тьфу!.. Такой же охальник!
Умолк Степан. Так молча и домой дошли.
У Петровны опять полезли в голову страшные мысли. Опять думала она, что нет в этом монастыре ни правды, ни бога, а есть только издевка и обман. Чувствовала, что зря прошла тысячи верст и зря молилась. Тяжкий груз черного греха пуще прежнего навалился на Петровну и душил ее. А где-то в глубине сознания все еще теплилась смутная надежда на облегчение, на чудо.
От вечерней службы шла она молча, металась главами и мыслями по сторонам и думала:
«Куда податься?.. Как замолить?.. измаялась я!..»
Поджидая Степана, походила по пустынной улице деревни, стараясь потушить пожар в душе. Домой пришла впотьмах, когда все уже спали.
Наконец пришли из монастыря Степан и хозяйка.
Степан нащупал в темноте подстилку и стал разуваться, а Петровна как влезла на сеновал, так и повалилась снопом на подстилку. Но уснуть долго не могла. Мысли, точно бурливая река в половодье, крутились и мчались в поисках пути к искуплению незамоленного греха. Давно уже храпел Степан. Второй раз перекликались петухи в деревне. А Петровна все не спала. Думала о монастыре, о монахах, о далекой деревне Кабурлах, о бабах кабурлинских и о своем грехе. На восходе солнца стала она забываться сном. И вдруг, открыв глаза, обмерла. Перед ней, в дверях сеновала, стоял рыжий Филат и жалобно просил:
— Настя, испить бы мне… Настя…
Он был в той же пестрядинной рубахе, в которой умирал, лицо его было синее, а рот — почерневший и ввалившийся; глаза мутные и голос хриплый.
— Настя, — хрипел он, протягивая длинные костлявые руки, — испить!.. Нутро у меня горит…
Метнулась Петровна. Хотела вскочить и кинуться вон с сеновала. Хотела закричать. Но не было сил подняться. Не ворочался язык во рту. И не было голоса.
А Филат — большой, костлявый и неуклюжий — тянулся к ней, дышал жаром раскаленным из почерневшего рта прямо ей в лицо и настойчиво повторял:
— Настя… Настенька…
Откуда-то доносился глухой голос Демушки:
— Ма-ама-а…
Собрала Петровна последние силы, рванулась и крикнула:
— Ай!..
Еще сильнее открыла глаза и поняла, что видела сон, что на дворе уже позднее утро.
Солнце стояло прямо перед открытой дверкой сеновала и горячими лучами опаляло лицо Петровны.
Рядом с ней сидел на сене Демушка, хныкал и куксился спросонья:
— Ма-ама-а…
А Степан стоял на лестнице и, просунув голову в дверку сеновала, торопливо выбрасывал слова:
— Настя! Вставай скорее!.. Полиция приехала… требуют нас…
Двое городовых забрали Степана с Петровной и хозяйку с Паланькой и на казенных лошадях привезли в город, в полицейское управление.
Акулину и Паланьку прямо в кабинет полицмейстера провели, а Ширяевых около дверей кабинета в коридоре оставили.
Полицмейстер, высокий, пучеглазый и красноносый, с бакенбардами, подусниками и усами рыжего цвета, в погонах, увешанный двумя медалями и одним орденом, допрашивал о вчерашнем происшествии в лесу.
Акулина рассказывала, как собирали они ягоду, как напали на них монахи, как на помощь Степан прибежал.
Полицмейстер то и дело перебивал Акулину:
— Только правду говори, тетка! — кричал он, бегая по кабинету и дергая руками рыжие бакенбарды. — Помни: о служителях храма божьего говоришь!.. Не докажешь… опозоришь святой монастырь — в тюрьме сгною!.. На каторгу закатаю!.. И на том свете будешь отвечать… Будешь гореть там в геенне огненной… Каленое железо языком будешь лизать…
Акулина обливалась слезами, сморкалась в подол юбки и испуганно бормотала:
— Правду сказываю, батюшка… изнохратили нас обеих!.. Не за себя хлопочу… за дочку!.. Куда же она теперь? Кто ее возьмет?.. Порченую-то?..
Читать дальше
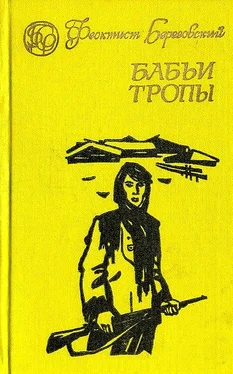


![Михаил Барщевский - Счастливы неимущие (Евангелие от Матвея) [Судебный процесс Березовский – Абрамович. Лондон, 2011/12]](/books/29215/mihail-barchevskij-schastlivy-neimuchie-evangelie-ot-thumb.webp)