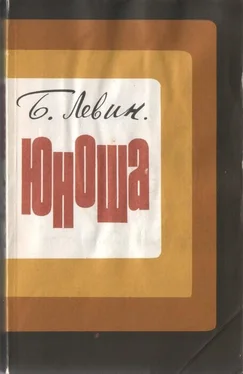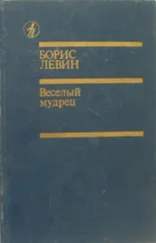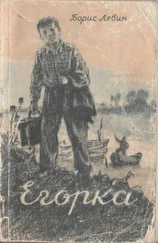Набожные евреи, а особенно старые еврейки сожительство раввина с Таней переносили как большое личное горе. Их это оскорбляло и возмущало, хотя они старались думать, что Таня вовсе не жена раввина, а просто прислуга. Общественного скандала они избегали — у раввина были большие заслуги и он имел прекрасное происхождение. Отец раввина был раввином, дед был раввином и дед деда был тоже раввином. Раввина знали в Праге и в Америке. Иногда он, чтобы задобрить Таню, говорил ей: «Ты знаешь, мой ландыш, мы, может быть, уедем с тобой в Сан-Франциско». И слово «Сан-Франциско» звучало для Тани синим и необыкновенным.
Тане у раввина жилось хорошо. Шелковые чулки, три пары туфель, платья, колечки, какао и еженедельные поездки на автобусе в город. Раввин был тоже доволен. Он цвел от любви и радости!
Прекрасная старость!
Но вот приехал музыкально-вокальный сатирик-юморист Сладкопевцев, и все пошло прахом. Сладкопевцев гастролировал по городам Белоруссии. Он выступал со своими песенками и куплетами в кинематографах Минска, Могилева и Витебска. В Витебске Сладкопевцев вспомнил, что, собственно, он и сам вырос в Витебской губернии. Роскошного куплетиста, в лакированных штиблетах и с хризантемой из стружек белого батиста, потянуло на родину. Ему захотелось посмотреть те места, где он когда-то бегал босиком и ел булки с черничным вареньем. К тому же был месяц май, дорога не пылила, и листья на березе блестели, как перья чижика. Насвистывая что-то из своего богатого репертуара, он сел в автобус и поехал в родные края.
«Кстати, — думал он, — там есть кино; дам три концерта и — обратно».
В первый же вечер он разочаровался в своей поездке. Ни знакомых, ни кафе здесь не было. Его никто не знал. Ему было скучно и немного грустно, как всегда бывает, когда после долгого отсутствия вновь попадаешь на родину. Он, зевая и лениво притоптывая «лакирашками», выступал перед своими соотечественниками, которые пришли послушать московскую знаменитость. Знаменитость равнодушно оглядывала серую публику и без ужимок и вдохновения выполняла свои обязанности перед администрацией кинематографа.
Как ныне сбирается хищный буржуй… —
пел он вполголоса. И когда ему кричали: «Громче!» — он показывал на свое горло — мол, в дороге простудился — и продолжал так же вяло:
В своей кровожадной миссии —
Взошедшего солнца украсть поцелуй
У нас, пролетарьев России,
Так громче, музыка, играй победу…
— Раз, два, — притоптывал он без энтузиазма и аккомпанемента.
Но вот в начале последнего сеанса Сладкопевцев заметил Таню. Он заметил ее заграничное вязаное пальто, синий берет, лицо ее издали блеснуло тузом червей среди черных девяток, восьмерок, валетов и засаленных дам.
«Откуда здесь такая фокстротная девуля?» — удивился Сладкопевцев.
И, обращаясь исключительно к Тане (это заметили и другие), он во всем блеске исполнил свой коронный номер. Это были давнишние, любимые его куплеты, которые заканчивались грустным философским завыванием:
В жизни живем мы только раз.
Извиваясь, он скользил и падал, он размахивал руками, подбегал к рампе, готовый соскочить со сцены, и застывал на месте, вытягивал шею, улыбался, двигал плечами, грустно качал головой.
Он пел:
Мы ведь любим только вас:
Не забыть твой…
Здесь он особенно вытянул шею, долго шарил глазами по лицам присутствующих и вдруг, будто невзначай, остановил свой взгляд на Тане, улыбнулся, топнул ножкой, утвердительно мотнул головой.
…черный глаз.
В жизни живем мы только раз.
Он так произносил это «В жизни живем мы только раз», будто хотел сказать: «Раз такое дело, граждане, так ничего тут не попишешь».
Тане очень понравились эти куплеты. Собираясь лечь спать, она разбудила раввина и в одной рубашке, притоптывая босой ножкой по коврику, подражая всем ужимкам и движениям гибкого куплетиста, спела: «В жизни живем мы только раз».
— Ложись скорей, бесенок, простудишься, — сказал влюбленный и счастливый раввин.
В следующий вечер Таня опять была в кинематографе, домой провожал ее Сладкопевцев. У самой калитки куплетист прошептал:
— Какие у вас чудесные волосы! Крашеные?
— Нет, — ответила Таня.
— Не может быть! — воскликнул пораженный Сладкопевцев, хотя ему было абсолютно все равно, крашеные они или некрашеные.
И когда, перед уходом, медленно, сквозь полосы лунного света, подносил к губам Танину руку, он вдруг, неожиданно, повернул руку ладонью вверх и сказал кокетливо, в нос:
Читать дальше