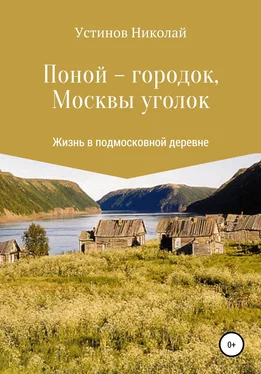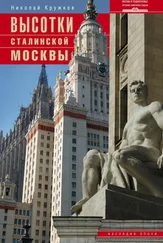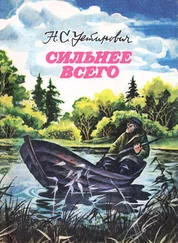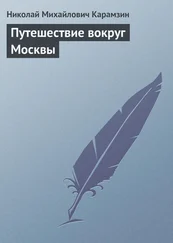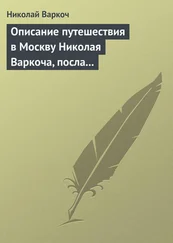Всё это на бумаге? Всякая действительная инициатива глушится сейчас же сверху? Но разве использование микроскопа в качестве молотка указывает на то, что микроскоп себя изжил, а не на что-то другое?
Потому что именно колхозы, а не совхозы и госхозы, как это ни покажется странным, несут в себе зародыши социалистического общества. Об этом писал, это подчеркивал, на это указывал В.И. Ленин. В кооперации он видел отнюдь не способ приобщения единоличника к коллективному труду. Это с успехом делается на любом предприятии, на стройках, в исправительно-трудовых лагерях и тому подобных организациях для приобщения коллектива к управлению экономикой государства, к коллективному управлению.
Разве колхозник или председатель колхоза виноват, что получает «свой» план сверху, в директивном порядке, составленный неизвестно кем и никаких реальных оснований не имеющий?
Будущее русского Севера – вот за такими маленькими, экономически сбалансированными силами, которые не надо расширять и «укрупнять», как пытались когда-то делать. Люди должны сами выбирать свой путь и свой завтрашний день. Только тогда они и смогут почувствовать его хозяевами.
«Направленный» в деревню для руководящей работы человек, не чувствующий, а часто и не понимавший самой сути деревни в первую очередь пытался её переиначить, если не на городской, то на поселковый лад. Ему интуитивно хотелось обрубить, уничтожить, выкорчевать те корни местной жизни, на которых он то и дело спотыкался. Они ему были непривычны и непонятны, они мешали и раздражали. Мечтая о созидании, он первым делом принимался за разрушение. Может показаться странным, но именно с разрушением в деревне давно смирились. Не потому, что деревенские жители читали М.Е. Салтыкова-Щедрина, в частности, «Историю города Глупова», а потому, что такова была жизнь на протяжении многих десятилетий.
А деревенский человек лучше городского знает, что плетью обуха не перешибёшь, поэтому начальству перечить не следует. Что-то ломают, что-то останется, как-нибудь приспособимся. В действительности их страшило не настоящее, а будущее. Не только их деревне, как они видели,– всему прежнему, привычному для них миру, в котором они родились, выросли и привыкли жить, приходит конец. И этот конец начнется со сменой поколений.
Вот и в этот раз вместо того, чтобы пройти по древним стойбищам, уйти от современности в тысячелетие прошлого, мы идём по развалинам того мира, который строили десятки поколений русских людей. Не только здесь, на всем пространстве России. Строили, чтобы передать этот мир в наследство нам, чтобы мы сделали его ещё лучше, ещё богаче, ещё красивее, ещё удобнее для человека.
А мы его разрушили. За несколько десятков лет мы сумели разрушить то, что создавалось веками. Вырвать с корнем, вырубить так, чтобы не осталось и следа. Это был далеко не первый, скорее, последний удар, которым добивали поверженную русскую деревню, приклеив на его фасад не подлежащий обжалованию приговор «неперспективная».
И как не вспомнить прозвучавшие когда-то в самом начале – злые, ненавидящие, но пророческие слова уезжавшей из России Зинаиды Гиппиус: И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, народ, не уважающий святынь!
Люди не смирились, они продолжали бороться за право жить на своей земле и в своём доме, за право самим выбирать своё будущее.
Привыкнув всю жизнь единоборствовать стихиям, терпеливо пережидать ненастье, свалившийся на них произвол поморы восприняли как очередное стихийное бедствие, которое надо пережить. Сами они жили в ладу с землёй и с морем, верили в собственные силы, их не страшил тяжёлый труд, поэтому, несмотря на невзгоды времени, они сохраняли надежду на лучшее будущее, которое готовы были строить своими руками, только бы им в этом не препятствовали… Похоже, это время наступило. Оно пришло вместе с новым поколением, которое не могло и не хотело жить по–старому, с новыми идеями и с новыми требованиями к обществу и к человеку, что привело к яростным схваткам между сторонниками и противниками нового курса. Люди маленького кусочка России, которые живут одной жизнью и одними заботами со всей нашей страной. И в этом плане они, я надеюсь, могут послужить читателю примером «к познанию России» Как назвал последний труд своей жизни замечательный русский ученый и мыслитель Д.И. Менделеев.
1975 год
Багульник
Вы видели, как цветёт багульник? Нет, не просто багульник, а целые сопки – большие, маленькие и совсем огромные. Это рассказать невозможно. Снизу и до самых макушек они делаются оранжевыми, фиолетовыми, розовыми. И запах от него-на всю тундру. Запах прямо-таки сильнейший, приятный, немного конфетный издали и одуряющий вблизи. Голова начинает кружиться, будто человек сладкого чего-то объелся или браги ягодной перепил. Багульник плотный, ярко-фиолетовый, будто с неба пролились тысячи чернильниц. Снизу то теплыми, то холодными толчками начал наплывать плотный, вязкий, сладкий, как помада, багульниковый запах. Над высокими горами, высоко, в куполе неба всходило, пучилось, дымно темнело облако. Сквозь него ещё пробивался свет, падая пучками на багульниковые сопки, пламенно и больно зажигая их оранжево, фиолетово, розово. От их кровавости невозможно было отвести глаза. Багульниковые сопки потеряли цвет, будто вылиняли от солнца или смыли с них акварель летние проливные дожди. Они сделались бурыми, почти коричневыми, под цвет багульниковой листвы, отяжелели, грубо выперли к небу свои горбы.
Читать дальше