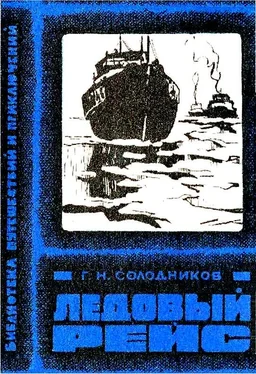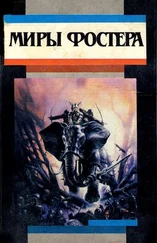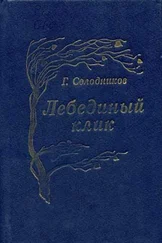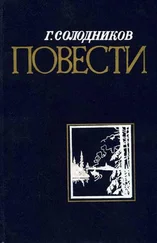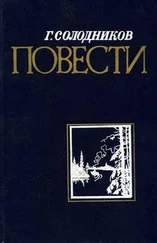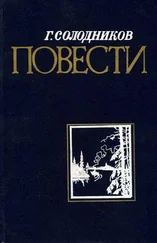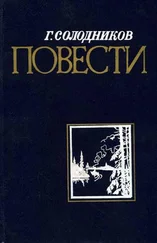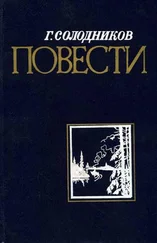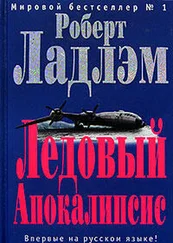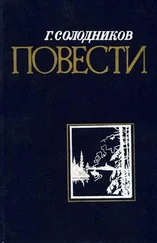Что у него за руки… Так и снуют. К каждому слову — жест. Правая по штурвалу бегает, левая в карман скользнула, вынесла на ладони непочатую пачку «севера». Острым ногтем большого пальца вдоль папиросин чирк — разрезал плотную бумагу, переломил пачку. Неуловимое движение пальцев и губ — и папироса во рту. Когда папирос станет меньше, он разорвет и вторую стенку пачки, будет две половинки. Теперь их можно вкладывать одна в другую. Совсем как старомодный кожаный портсигар. Удобно. Не мнутся.
Уже доносится музыка. На каком-то судне включен мощный динамик. Слышно, как стравливают пар. Белое облачко поднялось над трубой одного из буксирных пароходов.
Виктор вытянулся, высматривая место поудобней. Решил, что самое лучшее — причалить под корму буксира, к борту самоходки. Но только начал он скатывать руль, чтобы держаться поближе к берегу, как слева на полном ходу воровато прошмыгнула СТ-100. Когда подошли к стоянке, на «сотке» крепили чалки как раз в том месте, которое облюбовал механик.
Виктор растерялся от неожиданности. Он настолько был ошарашен наглостью старшего по каравану, что лишь резко выдохнул:
— Ну, Федорович!
На что уж Анатолий выдержанный, и тот круто выругался.
Через час Саня сидел в диспетчерской. Он помог Юрию принести сюда какие-то приборы в ящичках с ручками. Их послали из пароходства для пристани Тюлькино.
Несмотря на вечер, в этом командном пункте северного завоза было оживленно. Перед диспетчерами лежали разрисованные цветными линиями графики движения судов. Звонили телефоны. Старший диспетчер докладывал по селектору кому-то о том, сколько судов пароходства прошли Тюлькино, сколько здесь. Рассказывал о грузах.
— Всего пятьдесят восемь тысяч тонн. Да, да. Во всех самоходных и несамоходных судах. В основном хлеб, соль, уголь, металл и промтовары. Хлеб, хлеб — главное, говорю. Мука. Крупы… Обратно? По последним данным, на обратном пути надо брать около сорока пяти тысяч тонн леса. Нет, это кроме плотов. Кроме плотов. И металлолома пять тысяч тонн…
Саня вышел в коридор. Но и здесь из-за прикрытой двери другой комнаты неслось характерное потрескивание радиоаппаратуры. И женский голос, тихий и настойчивый, повторял:
— Двести сороковая. Двести сороковая. Как слышите меня? Прием… Где вы находитесь? Какой пункт прошли?.. Выше Серебрянки села на мель сто тридцатая. Точных сведений нет. Звонили из леспромхоза. Говорят, развернуло поперек реки… Двести сороковая. Двести сороковая. Как поняли меня? Прием…
Саня сидел под электролампочкой на скамейке, возле самого берега. Мимо него по дощатому тротуару перед пристанской конторой пробегали смешливые девчата и таяли за кромкой освещенного полукруга. И долго еще слышались их звонкие голоса и перестук каблучков. Где-то на окраине поселка взлетела песня, призывно вздохнула гармонь.
А он все еще слышал голос радистки и думал о незнакомых людях на тех двух судах. Коварная весенняя река. Тесно обступил лес. Глухомань. На сто тридцатой переволновались. Бились, наверное, весь день и весь вечер. Не смогли сдвинуть судно с отмели и стали ждать рассвета… А теперь снизу бежит двести сороковая, единственная из малых самоходок, на которой есть рация. И без того спешили, а сейчас, верно, и вовсе. Механик свой двигатель обхаживает: «Давай, давай, дизелек, не подкачай». В рубке смотрят во все глаза в плотные сумерки: как бы не залететь самим. Приткнутся к берегу в темноте на два-три часа и опять — вверх, вверх…
Пришли Виктор с Анатолием. После швартовки они ходили в гости к знакомым ребятам на буксир. Виктор был молчалив. И руки лежали спокойно, короткопалые, с почерневшими от машинного масла ногтями. Анатолий, наоборот, был весел, даже обрадовался, увидев рулевого.
Саня рассказал им об аварии. Анатолий посерьезнел.
— Да, им там нелегко. Навигационные обстановочные знаки не освещаются. Да и лет десять уже, наверное, не обновлялись. А река-то меняется… Правда, раньше сюда ходили совсем без обстановочных знаков. Но то раньше…
Видя, что практикант внимательно слушает его, Анатолий стал рассказывать о том, каким было судоходство в верховьях Камы в первые годы Советской власти.
Мало-мальски сносное сообщение северных прикамских районов с Пермью наладилось только с 1925 года. И то по Весляне суда поднимались лишь на семь километров, до села Шумино. По Каме пассажирские — до Гайн; буксиры заходили даже в Кировскую область, до Усть-Порыша, откуда выводили плоты, и до Фосфоритной. Там раньше была верфь. На ней строили барки, в которых фосфоритную руду, добываемую на Кайских рудниках, отправляли в Пермь на суперфосфатный завод. Теперь это завод имени Орджоникидзе.
Читать дальше