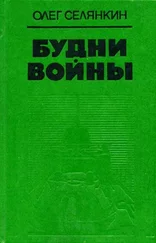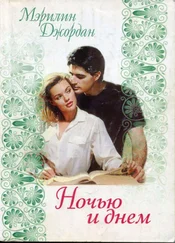Марья Ивановна громко говорила о том, что она всегда ждала того дня, когда качество учебы, качество воспитания станут главными в работе учителя, — и вот этот день наступил.
— Я завидую вам, Оля, что вы были на совещании, слышали все своими ушами. — И прибавила: — Да, да, качество учебы — это все. И так понятно: мы победили в войне и нам нужны культурные, грамотные люди, достойные нашей победы…
А Козаков молчал.
— Это очередная кампания, — наконец вымолвил он. — Мало ли их было, уважаемая Марья Ивановна! Ольга Петровна по легкомыслию, по молодости пришла в восторг, но вы-то?.. Хотел бы я знать, что нового могу прибавить к теореме Пифагора. Как ни крути, а никакой идейности я найти в пифагоровых штанах не могу, увольте…
— Но все зависит от вас, от педагога, — возмущалась Марья Ивановна, и ее зычный голос слышен был далеко вокруг. — В своем предмете, в географии, я найду возможность средствами самого предмета повысить идейно-политический уровень учащихся. Я…
— В географии — может быть, не спорю, но в математике…
Ольга Петровна силилась вслушаться в их спор. Козаков считался очень сильным математиком. Когда ей удавалось сосредоточиться, она, соглашаясь с Марьей Ивановной, с жаром начинала мечтать, как совершенно перестроит свое преподавание, но наплывали мысли о Федотове, все заслоняли, и Ольга Петровна с ужасом думала о том, какая она жалкая и мелкая: в такую великую для каждого учителя годину занята своим, личным.
Муки ее возрастали.
С раздражением смотрела она на Козакова, на его поблескивающие в лунном свете очки, слушала его монотонный голос, не понимая слов, которые он произносил, только догадываясь по протестам Марьи Ивановны, что тот, несмотря на свой ум, говорит неумно и зло.
И все-таки, борясь с раздражением, подавляя его, она старалась быть справедливой: «Что с ним? Ведь он вовсе не такой. Это он нарочно, со зла на меня, из желания пооригинальничать».
Лапкина положила голову на плечо Марьи Ивановны и с умилением подумала о том, что та до седых волос дожила, а в свое дело влюблена до самоотверженности и что такой вот, как Марья Ивановна, и должен быть каждый честный учитель.
— Ах, милая Марья Ивановна, милая, милая Марья Ивановна! — с отчаянием сказала она.
— Что с вами, голубчик?
Лапкина отвела глаза.
Они проходили как раз мимо дома директора — там было светло и шумно.
— Очевидно, Николай Петрович принимает гостя, — насмешливо сказал Козаков. — Угощает наливкой и поет песни.
Колени у Ольги Петровны задрожали.
На перекрестке Козаков попрощался.
— А ну его, вашего Козакова, — сказала Марья Ивановна, когда он скрылся за углом. — Не люблю я его, не обижайтесь на меня…
— Я не обижаюсь, — ответила Лапкина печально. — И вовсе он не мой…
Она проводила Марью Ивановну до ее дома. Та на прощанье сорвала ей с грядки простеньких белых пахучих цветов, но Лапкина потом букет бросила. Ей показалось, что это смешно — идет по улице женщина с цветами, влюбленная, но нелюбимая. Она снова прошла мимо дома директора, где светились окна. Наверное, Федотов все еще там. Сидит, молчит, курит, ужинает. Может, ухаживает за кем-нибудь. У директора гостит внучка, юная студентка. И вся история с Федотовым показалась ей вдруг такой банальной, простой, глупой, пошлой, что она похолодела от стыда. Вместе ехали, сошлись, разошлись… «Что же мне теперь делать? — думала она. — Как я буду жить, если больше не уважаю себя?»
Вся улица уже спала, ставни на окнах были закрыты, свет погашен. Где-то далеко в саду пели. В чьем-то сарае, проснувшись, замычала корова. Ветер зашевелил свисающие над забором ветки. Листья тихонько шелестели что-то свое, невеселое. «Сон ты мой золотой», — думала Ольга Петровна. Она стояла у чужого забора, смотрела на неосвещенную улицу и понимала, что никуда отсюда, не уедет, это невозможно — уехать, надо жить, как жила, работать, руководить драмкружком. Но сердце болело, она твердила: «Я не могу без него, не могу».
Она подошла к школе и испугалась. Кто-то стоял у ее крылечка.
— Это вы? — спросила Лапкина, слабея. — Я думала, директор вас не отпустит.
— Нет, зачем же, я пришел к вам…
Федотов взошел вслед за ней на крыльцо, прошел через сени в комнату. Она села. Он стоял виновато, как ученик. Так приходили к ней ученики, мялись на пороге, тискали в руках шапки, а она спрашивала, как умела, строго: «Ну, что тебе? Двойку хочешь исправить?» Сейчас она ничего не спрашивала. Не могла.
И опять он произносил не те слова, не то, что ей было нужно. Рассказывал, как понравился ему директор, очень толковый и занятный старик, критиковал постановку военного дела у них в школе, но не заикался о будущем, об их судьбе. Ей хотелось быть гордой, презрительной, независимой, она вытащила папиросу, закурила. Бодро рассказывала, как встретили ее ученики, как много скопилось работы, пока ее не было: она ведь должна будет сделать доклад о совещании на учительском собрании, надо серьезно подготовиться. Ольга Петровна как бы защищалась, хотела показать: вот она, моя трудовая жизнь, вот оно, мое дело, ты не смеешь меня презирать за то, что было в лесу. Но рука ее, державшая папиросу, дрожала.
Читать дальше