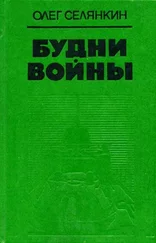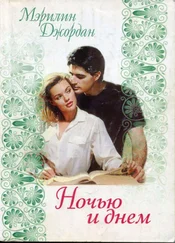Она покраснела.
Стемнело. Мимо окошка, карабкаясь вверх, проплыла огромная ликующая луна. Лапкина сказала восторженно:
— Мир вокруг нас стал ирреальным…
— Да, светит луна. Как будто зажгли осветительную ракету. Но у тех свет мертвенный, а тут — жизнь…
Из своего дорожного мешка Лапкина достала блузку с бантиком и туфли, в которых щеголяла на совещании, довольно еще новые, красивые туфли. Ей хотелось быть нарядной, необыкновенной, как эта сверкающая звездами и пахнущая лесом августовская ночь. Конечно, и в деревне бывали такие ночи в августе, такая же полная луна томилась в небе, но там будни, там некогда и глаза поднять на луну.
Она опять ходила по лесу, по вечерней росе, не щадя ни туфель, ни блузки. Федотов шел рядом, не догадываясь даже поддержать ее за локоть, когда Лапкина спотыкалась, и, чтобы казаться строгой и умной, она опять заговаривала о педагогике и психологии ребенка.
— У вас есть свои дети? — спросил Федотов.
— Нет, — помотала головой Лапкина. — А у вас?
— И у меня нет. Жена не хотела…
— Хорошо, когда дети, — с грустью сказала Лапкина. — Это счастье, когда дети.
— Я племянников люблю, как родных детей. Очень хорошие у меня племянники. — Лицо Федотова просияло. — Мальчик прекрасный. И девочка тоже хорошая.
— А мать у них хорошая? — спросила лукаво Лапкина.
Федотов не заметил насмешки.
— Хорошая.
— А тетка?
— Тетка? То есть жена моя? У них вся семья — две сестры, брат — прекрасные люди…
— А вдруг и завтра мост не починят? — перебила его Лапкина. Как-то некстати сказала: — У нас вот-вот должны начаться занятия в школе.
Они пошли обратно, плутая меж темных деревьев, и, когда показалась изба, Федотов обрадовался:
— Вот и наш дом.
Лапкина усмехнулась.
Она помедлила на пороге, потом решительно сказала:
— Нет, надо спать. Завтра встанем пораньше…
Сбросив туфли, она легла на свою койку. Луна укатилась за лес, но все равно комната была в чуть потускневшем свете, переплет окна бросал тень, на стену, исчерчивая ее квадратами, как ученическую тетрадь.
Вошел Федотов. Он остановился у притолоки и спросил деловито:
— Слышали когда-нибудь про письмо, которое послали финнам с острова Ханко, когда те предложили нашим сдаться?
— Что-то вроде ответа запорожцев туркам, да?
— Крепко написано, — сказал Федотов. Он уселся на табуретку и достал из кармана гимнастерки сложенный в несколько раз листок папиросной бумаги, бережно развернул его и передал Лапкиной осторожно, как вручают сокровище. — Я вам посвечу фонариком, если хотите…
Письмо было остроумное, хлесткое, меткое, но оно изобиловало такими крепкими мужскими словечками, что Лапкиной было неловко читать. И еще более неловко было признаваться в этом. Она только спросила:
— Вы были тогда на острове Ханко?
— Был.
— Как я завидую, что вы участник войны, — прижимая руки к горлу, сказала Лапкина. — Я рвалась на фронт, но не взяли…
— Трудно на войне. Вам было бы очень трудно.
— Что вы! Неужели я боюсь трудностей?
Федотов подвинулся ближе и взял Лапкину за руку.
— У вас есть муж?
— Он убит.
— Вы его любили?
— Любила, наверное, — поспешно ответила Лапкина. — Но это было так давно, в какой-то другой жизни, не в этой…
— А он вас?
— По-своему, может, и любил… — Она натянуто засмеялась. — Мы с ним так мало прожили вместе…
Этот вопрос она много раз задавала себе сама. Любил ли ее Игорь? Любила ли по-настоящему она его? Про себя она знала точно: была увлечена, была влюблена. Но Игорь, вернее, обстоятельства все сделали для того, чтобы их увлечение не переросло в прочную, не боящуюся бурь и испытаний любовь. А может быть, у каждого чувства есть свой потолок? Как имеют свой потолок и ум, и способности. И Игорь на большее был неспособен? Ох, не знала она, не знала. И мучилась, и страдала именно из-за того, что не знала.
Иногда она уезжала от Игоря домой, к бабушке, и рыдала по ночам, металась между телеграфом и бабушкиной квартирой, писала мужу длинные телеграммы-ультиматумы и разрывала бланки в куски, а бабушка подбирала их с полу и прочитывала. Спрашивала: «Он тебе изменяет?» — «Нет, что ты…» — «Может быть, он… может, он выпивает?» Оля только смеялась. «Игорь домашний мальчик, он пьет молоко, сок, ну, в крайнем случае сухое вино, и то под надзором своей мамочки». — «Оля, это непорядочно. Ты ревнуешь сына к матери. Это святое чувство — любовь сына к матери».
Оля отчетливо помнила, как он появился на курсе, Игорь, беленький, похожий на портрет Сергея Есенина, нежный. Читал ей свои стихи, на концерт повел. Не ругался, не орал. Пригласил домой, чтобы познакомить с матерью — она работала машинисткой в редакции. Была такая интеллигентная, воспитанная, делала вид, что Оля просто подружка, что у них с Игорем дружба. На все закрывала глаза, сюсюкала.
Читать дальше