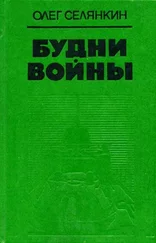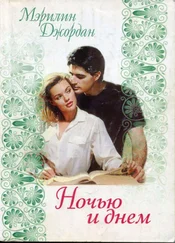Она положила на стол грибы и землянику. И вдруг почувствовала, что нисколечко не огорчена: что ж, она с удовольствием отдохнет денек, разберется в своих мыслях.
Она приготовила завтрак, потом просматривала книги из библиотечки, полученной на совещании, а Федотов спал, ходил зачем-то в деревню. Он принес свежей соломы на кровати, открыл забитое окно. Стало свежо и приятно.
Разговаривали они мало.
Лапкина, немного теряясь, завела было беседу о новых задачах в воспитании детей, о современной педагогике, об Ушинском. Но Федотов интереса к этим темам не проявил.
О себе Федотов говорил мало. Вскользь сказал, что попасть домой сразу после войны не пришлось, служил за границей в советских войсках, заболел, долго лежал в госпитале, вышел и вот почувствовал, что война как-то уже подзабылась, все заняты восстановлением, работают. Пошутил, что уже никто не встречает его с цветами и оркестром, как встречали других фронтовиков, а ему надо определиться в мирной жизни, найти свое место. Хочется ему оглядеться перед тем, как отправиться домой. К семье. Семья у него небольшая, есть жена, к которой он и поедет. Жена, он сказал это с гордостью, бывшая спортсменка, очень волевая. И Лапкиной почему-то был неприятен оттенок гордости в его голосе. Чуть надменно, как ей представлялось, она завела разговор о литературе, о книгах.
Но этого разговора Федотов не поддержал.
Оле Лапкиной казалось, что для нее не существуют люди, которые не любят искусства, и из всех учителей их района она выделяла только математика Козакова, который, немного, правда, фальшивя, играл на скрипке и уверял, что любит французскую живопись и стихи Симонова. «Что бы там ни писали критики, поэзия немыслима без любви. А в его лирическом дневнике есть живая женщина. Я как будто слышу стук ее каблуков». Козаков был худ, неопрятен, очень близорук, из-за этой близорукости его и не взяли в армию, но только с ним Лапкина могла отвести душу, поговорить об отвлеченном, о постороннем, не только о школе. И все окрестные учительницы подозревали, что у них роман.
Романа, однако, не было, хотя заумные разговоры о любви как таковой, какие-то намеки на чувство, полуслова все-таки имели место. Но Козаков был женат. И жена его, издерганная, чуть истеричная, с огромными, чуть навыкате глазами и завитушками, нависавшими на уши, женщина, которая преподавала географию в младших классах, всегда смотрела на Лапкину со страхом. Как будто Лапкина могла подойти сзади и всадить ей меж лопаток нож.
Лапкина очень огорчалась и старалась быть как можно любезнее, на что Элеонора, жена Козакова, тоже отвечала показным великодушием и с лицом великомученицы, но нервно хохоча зазывала Лапкину в гости:
— Муж так любит разговаривать с вами о литературе, приходите. Он ведь известный болтун. Бедненькая, вам тоскливо одной…
— Да не тоскливо мне вовсе, я так занята. — Лапкина содрогалась при одной только мысли, что ей придется пойти к Козаковым, в их грязную, неряшливую комнату, где муж будет увлеченно разглагольствовать, а Элеонора то неестественно хохотать, то смиренно говорить о том, как хорошо Лапкиной: живет одна, может хоть минутку выкроить для чтения, а у нее дети, муж, огород. Мужа ведь это не касается, она освободила его от домашних забот.
Лапкина не раз давала себе слово оборвать знакомство с Козаковым, ограничиваться при встречах в школе словами «добрый день», «как здоровье» или «всего хорошего», но ее тянуло к нему, потому что больше не с кем было обменяться мнениями о прочитанном. Он хоть знал, о чем пишут в газетах, что на фронте, слушал радио.
Как раздражали ее другие учительницы с их мелкими интересами, склонностью к сплетням, их усталостью и заезженностью, тем, что смирились и согнулись под тяжестью забот и трудных условий жизни. Исключение она делала только для Марьи Ивановны Орловой, но та по натуре была резкой, даже грубоватой, ничего не признавала, кроме служения долгу, твердила: «Ну, милая, ты же сама такую профессию выбрала — учитель. Теперь терпи…» А Оле Лапкиной еще хотелось жить, любить, хотелось какого-то взлета.
Был еще директор, очень славный человек, но старый, больной. Он преподавал историю, в войну служил интендантом и сам признавался: «Позабыл я за войну эту свою историю, да и на многие вещи смотрю шире, приходится очень много готовиться к занятиям». Работы в школе было по горло, чтобы сплотить учителей, общаться с ними, чаевничать, даже в мыслях у него не было. Он все хотел подбить колхозников на то, чтобы отремонтировать школу. Здание построили незадолго до войны, но без ремонта помещение обветшало. То падала с потолков штукатурка, то дымили печи.
Читать дальше