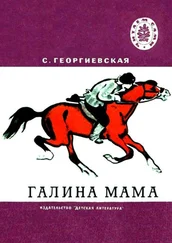…— Я знаю, знаю, почему вы едете в Таллин! — доказывала она. — Решили перед тем, как браться за проект города, «застолбить» Гроттэ! Заставить его экспериментировать… Одним словом, «выжать» из него армированный гроттит… Я вас вижу насквозь, насквозь. Так вот: право же, практичней — сразу, вместе с конструктором… Я уверена — без меня вы прорветесь в цеха, но не сумеете как следует поговорить с Гроттэ. Не наладите связи. Уж что знаю, то знаю. Ну, а ко мне он так хорошо относится! Увидите, вот увидите — я вам здорово пригожусь, попомните мое слово!.. Это раз. А второе то, что с Викой вы тоже можете встретиться в Таллине. Нет, вы послушайте, послушайте! Один из самых красивых городов мира… И, наверно, надо будет слегка ее приодеть, а вы непрактичны… Вот и отлично, отлично! Я — в командировку. Вы — в отпуск. Она — на каникулы.
Что было делать? Что ответил бы на его месте другой? Уж ответил бы и сделал бы, верно, что-нибудь. Но что?.. Этого Петр Ильич не знал. Он никогда не знал, как поступил бы на его месте более твердый, лучше умеющий защитить себя человек.
«…Я буду осторожен. Я буду вежлив. Я буду бережен», — обещал себе Петр Ильич.
Но что это значит — быть осторожным? Как будто бы об осторожности она его просила. Как будто бы для того, чтобы не причинять ей боли, ему только и следовало, что быть с ней осторожным.
Он молча купил ей мороженого, и она принялась есть, печально облизывая деревянную ложку. Чуть дрожали ее влажные губы. Они даже будто слегка припухли, как от недавнего плача.
Будь проклята деревянная ложка, мороженое… И мягкость, мягкость! Кто бы, кроме него, поставил себя в такое дурацкое положение?
— Петр Ильич, Петр Ильич, вот бумага. Вы слышите?! Я кладу ее на письменный стол. Ну, сосредоточьтесь хоть на минуту, пожалуйста… Когда поедете завтра на вокзал, не забудьте: во-первых, захватить с собой цветы. С вас станется забыть! А во-вторых, заверните их в эту бумагу.
…К вечеру Зина переоделась. На ней был светлый костюм, — она носила его не без изящества. Правда, ноги были несколько коротковаты, — и это становилось особенно заметным при узкой юбке, — мясистые в щиколотках, они были велики и тяжелы по ее росту, но все вместе производило все же впечатление моложавости, легкости.
Когда в ее наигранном оживлении не чувствовались пот и отчаяние, она была довольно мила (если быть хоть сколько-нибудь справедливым, не острить и не досадовать).
…Восьмой час. В номере не то чтобы потемнело, но комната уже не была вся сплошь залита светом. (Весь день напролет солнце назойливо шибало в одно из трех окон «люкса».)
В полувечернем мягком свете лицо Вирлас казалось светлее, строже, спокойней. И так она была сегодня мила и добра, что предложила оставить его, уйти к себе. «Он устал. Она это видит. Пусть отдохнет. Они могут встретиться попозже, часов в десять, одиннадцать. Вместе бы и поужинали».
— А может быть, лучше вместе позавтракаем? — спросил невинно Петр Ильич. — Я и Вика с утра пораньше за вами бы и зашли… А? Как вы, Зина, на этот счет? Гостиница «Таллин», второй этаж, комната тридцать четыре, — верно? А сегодня я бы, пожалуй, на самом деле пораньше завалился спать. Ведь завтра день какой напряженный: две встречи — Вика и Гроттэ!..
Она была не в силах скрыть обиды и боли. «Я… я готовилась. Я так хорошо, я так на редкость хорошо выгляжу! В первый раз я надела сегодня этот костюм. Я сшила его специально для тебя, для этой поездки с тобой в Таллин… Держать тебя за руку!..
Видеть, слышать тебя! Как будто на свете есть „завтра“!.. Завтра мы уже не будем больше вдвоем. Не будем сидеть одни у столика…»
Увидев опустившиеся углы ее губ, он отвернулся и стал считать про себя до пятидесяти. Но, не досчитав, подошел к ней и ласково поцеловал ее руку:
— Спасибо, Зиночка.
«…Тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь. Врешь, не возьмешь…»
Ее улыбка была и трогательна, и жалка. Меж свежих, плотных губ выступали ровные, очень белые зубы с небольшим расстояньицем между резцами. И до того ему сделалось ее жаль, что он позволил себе обнять ее за плечи и проводить таким образом (таким макаром, как он назвал это про себя) до самой лестницы, через весь коридор гостиницы.
«Раз, два, три… Пять, шесть, семь…»
Когда он возвращался в номер, ярко блеснул ключ в замке. Большущий ключ, увенчанный дурацкой плоской бляхой. Вынув зачем-то ключ, он загляделся рассеянно на медную бляху. Она поплыла, принялась двоиться, троиться… Прикованный глазами к ней, Петр Ильич сел в кресло, вытянул неги и просидел так битый час, не отрывая взгляда от медной бляхи, которая стала понемногу тускнеть.
Читать дальше