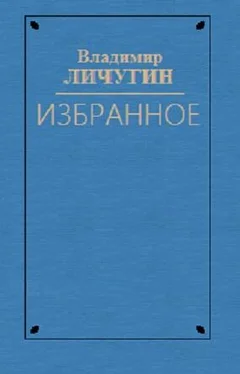— Где сам-то? — спросила Нюра, отмечая некоторую грузноту Анисьи, ее утиную походку. «Неужто понесла? — подумала сразу, схватывая знакомые приметы. — Мартыну бы радость».
— На работы сам-от…
— Ну да. Тоже надо, — согласно качнула головой Питерка и опять уселась прямо и строго, сложив изработанные руки на колени. — Вчерась сон видела, будто бежит корова в рыжих копейках. А потом будто и платок утеряла и думаю умом: что-то голова зябнуть стала. Нынче все чего ли привидится. А когда сполнится, тогда и сбудется.
— Плохо лежала, дак приток крови.
— А нынче каждое место болит… — Нюра стала озираться вокруг, отдохнувшими глазами проглядела семейный иконостас, нащупывая одну, давно знакомую фотографию. Первый муж Анисьи сидел на венском стуле, широко расставив ноги в бахилах, крупные ладони, повитые жилами, словно бы отдельно от тела отдыхают на коленях, лицо у Клавдия бугристое, квадратное, тонкая прядка волос начесана к узким застывшим глазам. Подумала: экий же и всамделе был простофиля, последнее отдаст. Везет Аниське на мужиков. Рядом с Клавдием стоял он, Семейко Нечаев, рыбацкие бродни до самых рассох, ладонь на плече приятеля, брови строгие, в упор заведены, на голове шапка зимняя пирожком, над верхней губой щетинка усов… «Любый ты мой, господи. Поминал ли когда, или не было словно».
— Слышь, Анисья, это когда заснимывались? — не поднимаясь с лавки, ткнула в коричневую деревянную рамку, источенную жучком.
— Уж какой раз спрашиваешь. Влюбилась, что ли? — Анисья ладонью обмахнула фотографию, близоруко всмотрелась, словно что заново хотела разглядеть, не узнанное ранее. — Не пил, не курил Клавдеюшка. А ушел на войну, и более все. Это он после гражданской где ли, со зверобойки шли и в Архангельском отметились. Тоже форсуны были.
— А я Семейку-то знала, того, в стоячку который. Бывало, на первую мировую походил, так в нашем доме ночевал. У свекра тогда народу какого-то дивно собралось, избу забили, диво ли, всех-то девок восемь штук, да парней трое, да отец с матерью, да бабка с печи не слезала. Семейку-то ночевать в запечье повалили, а бабка-то ворочалась, видно, и квашню во сне спехнула. Тот и вылетел, орет, мы понять ничего не можем, Семейко весь в тесте, давай с него соскребать. Ой, смеху-то было, так до утра и не спали боле. Теперь уж где ли тоже старик…
— Как не старик-то.
— Моему Екимушке бы нынче пятьдесят три… Семейко-то зажал было в сенях, дак платье в подмышках лопнуло, дьявол такой. Клятвы-то еговой век не забыть.
— А все они для одного дела клянутся, — усмехнулась Анисья.
— Тебе-то грешно такое наговаривать. На мужиков-то ты повезенка: что первый, Клавдейко, такой уж тихоня был, то и племяш мой, уж не похулишь, пальцем не задиет… А я, как было провожала Семейку, на крыльцо вышла, греховодница. — Нюра снова небрежно ткнула скрюченным пальцем в выцветший снимок и попала бывшему ухажеру в лоб. — Вышла на крыльцо да плачу, а громко-то реветь нельзя, грех велик, я уж тогда вдовела, дак будто соринка в глаз посунулась. Я эдак-то пальцем ковыряю, а слез и пригоршней обрать не могу: «Ой, Семеюшка, ты Семеюшка, тебя боле не видать». И как в воду глядела. А он на заулке-то стоит и тоже будто плачет.
— Раньше почто-то не сказывала. Ну, Анна Ивановна, когда все открываться стало, — шутливо погрозила пальцем Анисья и как-то порывисто и неровно расцвела вся, обливаясь румянцем, засуетилась на стуле, сбивая коричневым гребнем мелкие кудряшки. Потом убежала в запечье, словно скрывая свою нечаянную радость: многим ли так на Вазице повезло, многим ли, и помоложе бабоньки сиротеют с войны. Уже из запечья, не показываясь, спросила глухо, горловым голосом, будто бы плакала там:
— Каково нынче бе́лки-то?
— Белки-то много, дивья зверя нынче, да у бабы Нюры глаза боле плохи, — сказала Питерка о себе в третьем лице. — У бабы Нюры глаза вовсе пропали, на живодерню бы свезти, как худу кобылу.
— Да как ты живешь там одна-одинешенька? И неуж страх не долит? Переходила бы не то к нам, — сказала Анисья дрогнувшим голосом. — Изба наверху порозная…
— А вот так и живу, голубеюшка, — сказала Нюра, оставив без внимания последние невесткины слова… «До меня ли тут, прости господи. Своих-то дитешей полна лавка, да брюхата ходит, а я еще тут, ремочница старая, досадить буду». Так подумала Нюра, а вслух откликнулась: — Парно-то, Анисьюшка, люди никогда жить не будут. Один живет — красуется, другой — позорится, не живет, а существует. Родитель-то мой — безотцова сирота, и мати — безотцова сирота, и я тешона не бывала, ремков шелковых не нашивала.
Читать дальше