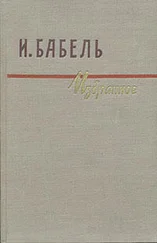С той поры Шлойме ни о чем другом не думал. Он знал одно: сын его хотел уйти от своего народа, к новому богу. Старая, забытая вера всколыхнулась в нем. Шлойме никогда не был религиозен, редко молился и раньше слыл даже безбожником. Но уйти, совсем, навсегда уйти от своего Бога, Бога униженного и страдающего народа – этого он не понимал. Тяжело ворочались мысли в его голове, туго соображал он, но эти слова неизменно, твердо, грозно стояли перед ним: «Нельзя этого, нельзя!» И когда понял Шлойме, что несчастье неотвратимо, что сын не выдержит, то он сказал себе: «Шлойме, старый Шлойме, что тебе теперь делать?» Беспомощно оглянулся старик вокруг себя, по-детски жалобно сморщил рот и хотел заплакать горькими, старческими слезами. Их не было, облегчающих слез. И тогда, в ту минуту, когда сердце его заныло, когда ум понял безмерность несчастья, тогда Шлойме в последний раз любовно осмотрел свой теплый угол и решил, что его не прогонят отсюда, никогда не прогонят. «Старику Шлойме не дают съесть кусок засохшего пряника, который лежит у него под подушкой. Ну так что ж? Шлойме расскажет Богу, как его обидели, Бог ведь есть, Бог примет его». В этом Шлойме был уверен.
Ночью, дрожа от холода, поднялся он с кровати. Тихо, чтобы никого не разбудить, зажег маленькую керосиновую лампу. Медленно, по-стариковски охая и ежась, начал напяливать на себя свое грязное платье. Потом взял табуретку, веревку, приготовленную накануне, и, колеблясь от слабости, хватаясь за стены, вышел на улицу. Сразу сделалось так холодно… Все тело дрожало. Шлойме быстро укрепил веревку на крюке, встал возле двери, поставил табуретку, взобрался на нее, обмотал веревку вокруг худой трясущейся шеи, последним усилием оттолкнул табуретку, успел еще осмотреть потускневшими глазами городок, в котором он прожил 60 лет безвыездно, и повис…
Был сильный ветер, и вскоре щуплое тело старого Шлойме закачалось перед дверью дома, в котором он оставил теплую печку и засаленную отцовскую Тору.
По субботам я возвращался домой поздно, после шести уроков. Хождение по улице не казалось мне пустым занятием. Во время ходьбы удивительно хорошо мечталось и все, все было родное. Я знал вывески, камни домов, витрины магазинов. Я их знал особенно, только для себя и твердо был уверен, что вижу в них главное, таинственное, то, что мы, взрослые, называем сущностью вещей. Все мне крепко ложилось на душу. Если говорили при мне о лавке, я вспоминал вывеску, золотые потертые буквы, царапину в левом углу ее, барышню-кассиршу с высокой прической и вспоминал воздух, который живет возле этой лавки и не живет ни у какой другой. А из лавок, людей, воздуха, театральных афиш я составлял мой родной город. Я до сих пор помню, чувствую и люблю его; чувствую так, как мы чувствуем запах матери, запах ласки, слов и улыбки; люблю потому, что в нем я рос, был счастлив, грустен и мечтателен, страстно неповторимо мечтателен.
Шел я всегда по главной улице, там было больше всего людей.
Та суббота, о которой мне хочется рассказать, приходилась на начало весны. В эту пору у нас в воздухе нет тихой нежности, так сладостной в средней России, над мирной речкой, над скромной долиной. У нас блестящая, легкая прохлада, неглубокая, веющая холодком страстность. Я был совсем пузырем в то время и ничего не понимал, но весну чувствовал и от холодка цвел и румянился.
Ходьба занимала у меня много времени. Я долго рассматривал бриллианты в окне ювелира, прочитал театральные афиши от а до ижицы, а однажды осматривал в магазине мадам Розали бледно-розовые корсеты с длинными волнистыми подвязками. Собираясь идти дальше, я наткнулся тогда на высокого студента с большими черными усами. Он улыбался и спросил меня: «Изучаете?» Я смутился. Тогда он важно похлопал меня по плечу и покровительственно сказал: «Продолжайте в том же духе, коллега. Хвалю. Всех благ!» Расхохотался, повернулся и ушел. Я был очень сконфужен, поплелся домой и на витрины мадам Розали уже не заглядывался.
Этот субботний день полагалось проводить у бабушки. У нее была отдельная комната, в самом конце квартиры, за кухней. В углу комнаты стояла печь: бабушка всегда зябла. В комнате было жарко, душно, и от этого мне всегда бывало тоскливо, хотелось вырваться, хотелось на волю.
Я перетащил к бабушке мои принадлежности, книги, пюпитр и скрипку. Стол для меня был уже накрыт. Бабушка села в углу. Я ел. Мы молчали. Дверь была заперта. Мы были одни. На обед была холодная фаршированная рыба с хреном (блюдо, ради которого стоит принять иудейство), жирный, вкусный суп, жареное мясо с луком, салат, компот, кофе, пирог и яблоки. Я съел все. Я был мечтателем, это правда, но с большим аппетитом. Бабушка убрала посуду. В комнате сделалось чисто. На окошке стояли чахленькие цветы. Из всего живущего бабушка любила своего сына, внука, собаку Мимку и цветы. Пришла и Мимка, свернулась калачиком на диване и заснула тотчас. Она была ужасная соня, но славная собака, добрая, разумная, небольшая и красивая. Мимка была мопсом. Шерсть у нее была светлая. До старости она не обрюзгла, не отяжелела, а осталась стройной и тонкой. Она у нас долго жила, от рождения до смерти, весь свой пятнадцатилетний собачий век, и любила нас, – это так понятно, а больше всех суровую и ко всему безжалостную бабушку. О том, какие друзья, молчаливые и скрытные, они были, я расскажу в другой раз. Это очень хорошая, трогательная и ласковая история.
Читать дальше