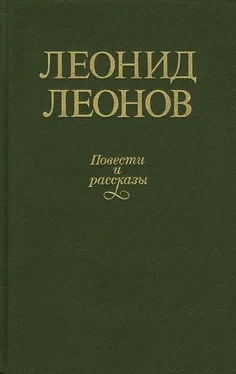Каждый год заходит в громовую тучу солнце, полуденный пряник ильинской ярманки. И до вечера позднего, покуда пьяным храпом не устлалась земля, горланили неугомонные Пестюръки. — Ай-гой, кому остатки… вот тут кудель, пенька и веревка. Э-эй, зипун, подходи! — Почем конец вот энтот? — Энтому четвертак вся цена… — Четверта-ак? Ну-к сам на ем удавись! До самой утренней зари, — избитого, кровоточащего Талагана в канаве, возле ямщицких кормушек, нечаянно найдя, — плакала сурово злыми, бабьими слезами Аннушка, лила, не жалея, водку в запекшиеся губы, щупала синеющую полуаршинным кровоподтеком грудь и живот, раздувшиеся страшно. И, грозя бессильным бабьим кулаком, звала огненную, нищую беду на пьяную, рыкающую округу.
VI
Висит месяц над осиновым пнем, глядит пень унылым глазом в месяца, и знает месяц, что есть подле низового бора глупый, осиновый пень. И знает пень, что есть месяц светлый в облачных пучинах вверху. И так они одиноких два: бродит один, ищет, — сиднем сидит другой, знает — «не найдешь!».
Раскинулись широко по небесам большие пастбища лилейные, неужто же травы на них не растут, прикрыт не ползет, донник, гулевая трава тоски, трын-трава, не цветет тусклым цветом, цветком-бельмом?
Плавают ночные блудливые тени в синем молоке вечерних рос. Проходит, наскрозь проходит свою землю Пафнутий, чует беду.
Порхнула мышь сквозь ночь.
Прикидываются тени людьми, люди — зверьми, звери — пнями; присядут на корточки в кромешной тиши, и не разберешь тогда: ли пень, ли тень, ли человек с ножом, ли рысь усатый, но взмахнет хвостом, заиграет рогом, — увидишь: див.
Не ходите в полночные леса, девки, по ягоды, мужики — по дрова, трухлявые старухи — за грибами: встретишь дива, он куражиться горазд, гаркнет — станешь пень.
Ходит див по полям то гадюкой сереновой, то галкой нелетучей, то зверем ночным о двух хоботьях. И где покрестит Пафнутий, там плюнет див. Нет больше месяца над осиновым пнем: сизое облако на него набежало. Береза по-вдовьи над камнем плачет, сыч надрывно кричит. О чем тут плакать, о чем кричать? Разве затем лишь небо, чтоб облака в нем плавали? Разве затем лишь глотка, чтоб кричать навзрыд?
VII
Дадено Савосьяну не храпеть никогда. Знамые люди сказывают: у кого в сердечнике щель, тот не храпит, — щель мешает.
Он спит хорошим сном сорока праведников, коим обетовано царствие… А месяц стоит опять в небе, а на месяце сидит мальчик и песенку поет, мальчик-сон, болтая из серебряного лычка лапотком вниз. Спит и Алеша, — да охранится от дива некрепкий сон его. Под тулупом волчьим Савосьяна, где спит он, пусть приласкает мальчик-сон его девичье сердце!
А на подоконнике, весь под светлым месяцем, стоит Егорий глиняный, и коня его раскрытые чутко ноздри слушают прохладные запахи полночи, которая течет за окном. Егорий вот каков: на самом три ладка, и конь дудкой тоже, — подуй ему в хвост, зажми ладок умелым пальцем, и запоет Егорий, и потеплеет глина, и содрогнешься весь.
Проползают, пробегают под самым окошком легкие и тяжкие, пузатенькие и тощие крапивные сны и пряничные, проходят мимо, заглядывая в окошко лунным глазком.
Куда послал вас Мальчик, милое, ночное зверье? — Бабка Аграфена счас помирать будет… Обступим, чтоб легчае было! И тут слышит Алеша гудочек тихий сквозь сон и открывает глаза и видит. Пляшет под Егорьем на залитом луной подоконнике глиняный его норовой конь, и гудочек призывный — из окна. Не сводит темных, потому что увидели другое, глаз строгих Алеша… А месяц стоит в окне, а яблони молчат в луне, и небалаканые воды тишины текут в глухом овраге, как давняя, забытая река.
Спрыгнул конь на пол, дрогнуло Егорьево копьецо. Раскрылась дверь, и вышагнул конь, и засиявшее Егорьево лицо осветило темные сенцы: решето на стене, два корытца липовые и прялку старую, — Савосьянова бабка пряла семь годов назад. И, позванный одним немым взглядом, пошел Алеша за Егорьем, — вышел и застыл, пораженный радостно.
…Обступили кругом камни, страшной силой раскиданные между великих гор, на них леса взмахом до неба, над ними дикие пучины черных небес. С камня перескакивая на камень, с горы на гору, нес Егорья чудесный конь. И рос и рос на коне Егорий глиняный, — вот стал ростом в семь дубов больших, вот затерялся в сером облаке мимобегущем золотой его шишак. Обрадованный, шел за ним Алеша по бездорожному каменью и синие пучины, в синей рубашонке сквозь вечную ночь. И когда блеснул месяц негаданный меж двух обширных гор, догадался Алеша: да не подкова ли серебряная коня Егорьева — в осенних ночах встающий месяц?
Читать дальше