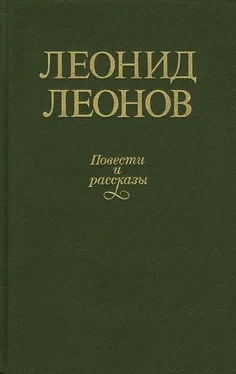— Ты бы помыл его хоть раз! — выступил я, чтоб отвлечь гостьино внимание на себя, покуда Буслов оправится. — А у них ведь от этого чума бывает.
— А вот Диоген жил в бочке и не мылся совсем, — удивительно глупо вырвалось у Манюкина. Не из тех ли соображений, что и у меня? — И умер, съев живую каракатицу! — докончил он почти с отчаяньем.
Она вряд ли что поняла из сказанного им.
— Это ты для меня все рассказывал? — тихо спросила она. — Я слышала…
Буслов был смят; даже больше, он как-то отмякнул до полного упадка сил, до некоторого самоуничижения в своих поступках. Он вдруг заговорил быстрыми, бессвязными словами, неуловимыми для записания. Он объявил, впрочем, что вот сегодня справляют редкозубовский мальчишник, что непьющих в Унтиловске почитают за людей опасных и вредных, что она непременно должна выпить за благополучный исход редкозубовского сумасшествия.
— Так ведь я, может, и не женюсь еще! — лягнулся вдруг Илья, и обычно землистые уши его накалились до ярчайшей пунцовости.
— Веди себя прилично, Илья. Ты пьян, но не показывай виду! — сказал я и не без скверного удивленья приметил, что дерзость эту мне внушила самая противоестественная ревность.
Впрочем, не вдаваясь в остальные подробности неудавшегося торжества, я поспешу указать, почему столь многими словами оттягивал я конец этой главы. Причина видна будет из последних строк, причина — не только стыд мой, но и торжество мое. Буслов сидел против жены своей и украдкой старался вытереть с себя следы недавнего происшествия. Эшафот его, употребляя уже знакомое сравнение, был не менее жуток того моего, полузабытого, когда любовь и мерзость соединились во мне, под ее окном.
В этом-то вот месте и начал Манюкин свой возмутительный тост, разрешивший тяжкие сомнения, мучившие и меня, и Буслова. Выгнувшись в талии почти с придворным лукавством, он приступил к таким словам.
— Виноват, — защебетал он, приятно воздымая места, где обычно бывают брови. — Возьмите, пожалуйста, кружки ваши. Величайшая откровенность, какая только доступна человеческому существу… искренность, обуславливаемая подлинным прекраснодушием, всегда являлись главным украшением истинного славянина. Раскройте нашу историю и возьмите наугад… но я оставляю это, ибо не в этом речь.
— Не икай… — вставил Илья: очки ему уже не помогали.
— Удел высочайших душ, переполняемых чувствами и потому раскрывающих и карман и душу, есть наш удел! Потому-то и пожирали нас разнообразные волки на всем историческом протяжении этого… нашей истории. О, славянин двадцатого века Виктор…
— Одерни его, ишь завез! — попросил я Илью, но он был мало способен теперь понимать человеческую речь.
— …Виктор Буслов, мы любим и ласкаем тебя! — Находясь рядом с Бусловым, он попытался положить руку ему на плечо, но своевременно одумался и не положил. — Только что мы видели кипящее море твоих страстей. Но это все не важно, а важно иное. Супруга Виктора Григорьича вернулась к покинутому, разрываемая поздним, но плодотворным раскаянием на части. То была ранняя пора, когда бушует ветреная младость, по вещему слову поэта. И разве плохо, что она бушует? Бушуй, бушуй, младость, бушуй. И незрелые плоды твои слаще зрелых плодов осени. Бушуй, хоть и ведет тебя порой темное крыло греха. Но непорочная-то любовь всегда непрочная, а с изъянцем покрепче! И вот я припоминаю величественный случай моей юности. Васька Пылеев вином хвастался. В моих, говорит, подвалах…
Только здесь Раиса Сергевна, бледная и растерянная, поднялась из-за стола и отставила свою кружку.
— Простите, — проговорила она с жалкой улыбкой. — Мне кажется, что вы ошиблись относительно причин моего приезда в Унтиловск. Я совсем… совсем… — Она искала слово и нетерпеливым ноготком царапала скатерть. Совсем не значит, что я вернулась к Виктору Григорьичу. Я приехала с мужем, который эсер… ну, вы понимаете. А пришла я сюда, — она передохнула и распустила душный мех, — пришла помириться с Витей. Он хороший, и я, мне кажется, не совсем плохая. И еще… — Она заметно путалась в изображении целей своего прихода, но об этом я вспомнил только впоследствии. — И, кроме того, мне было любопытно, в чем каюсь совершенно открыто, почему… почему Витя не уехал отсюда в революцию. Я ему посылала письма…
Обернувшись влево, я увидел, что бусловские плечи прыгали. Потрясенные, мы стояли вкруг стола, один только он сидел. И тогда спазма схватила мне грудь; что-то сорвало меня с места. Движимый прекраснейшими чувствами, я подбежал к Буслову и обнял его за плечи.
Читать дальше