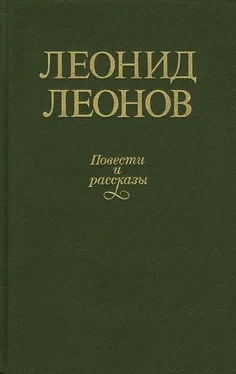Очень удивляясь такому обороту дел, Димитрий Никанорович наклонился над отверстием. Тогда произошел эпизод. Оттуда пальнуло огнем и чем-то черным прямо ему в носовую часть лица. Звук был как от большой пушки. Терлюков молча упал и, казалось, перестал издавать дыхание.
Вслед за тем становой подбежал к несчастному изобретателю, чтоб поглядеть, что такое получилось. Я бы, откровенно говоря, и не порешился на такую смелость! Однако едва он подбежал, то из боковой дырки вторично хлопнула струя огня и прожгла цельное пятно на его белом кителе. Машина продолжала действовать и стреляла во все стороны.
Мой К. Г. первым выскочил из переднего ряда, крестясь, как от беса. Бибин М. И. просто показал кулак лежащему Терлюкову. А дамы бежали врассыпную и даже с очевидным неприличием перескакивали через ограду палисадника. Особенно туго пришлось одной старой монашене, которая, повиснув на заборе, вблизи от самой стреляющей машины, кричала неимоверным криком. (Монашена эта, как потом разузнали, приехала к Никанору Петровичу погостить, как к брату, из Владычного монастыря. Решив посмотреть на племянникову затею, она и подверглась такой неприятности. Вообще у нас, в Гогулеве, монашенам не везет: которая ни приедет — непременно родит!)
Скоро около Димитрия Никаноровича, поверженного во прах, не осталось ни человека, словно вымерло! И только через час узнали (когда машина вся кончилась, ее разбили камнями!), что изобретателю вышибло глаз и повредило палец. Палец и доныне остался кривой, такая жалость!
Дома хозяин мой, Зворыкин, так про него супруге выразился: «Счастье его, что не мне он дырку прожег. Я б ему такой перистум показал, родного отца за черта б принял!» А что касается станового, то он, несмотря на мои увещания, целиком был уверен, что Терлюков нарочно все это проделал, в пику правительству. Даже постановили отца его, бывшего дьячка, служившего сторожем при Гогулевской больнице, отрешить от должности в наказание за сына. Хотели даже под суд отдать, но я восстал против такой необдуманности. Однако слава Димитрия Терлюкова погибла навек.
Я не осуждаю. Уж если Бартолин ошибался, нашему Терлюкову и совсем не грех. Да и вообще — при наших обстоятельствах уж лучше не изобретать. Мне его очень жалко, — от науки погиб человек. Но все же нельзя к таким вещам с бухту-барахту подходить. А уж если изобрел, то отходи подальше!
САТИРА НА РЕГЕНТА ВАСИЛОВА
Шел вчера он по Базарной
После выпивки одной,
В настроении кошмарном
Пробирался он домой.
Вдруг навстречу идет Булдасов,
Гогулевский наш главный фат,
Говорит он грубым басом:
«А, Василов! Очень рад!
Протяни, приятель, руку!
Пойдем к Самыкину в трахтир,
Там разгоним нашу скуку
И забудем цельный мир!»
Выпить всегда готов Василов,
Оy тотчас же руку дал
И к Самыкину трахтиру
Моментально зашагал.
Сели, водочки спросили, —
Пропустили по одной,
Огурчиком закусили. —
Пропустили по другой.
Глядит Василов на соседа.
Да вдруг как пустится в бега:
Из Булдасова, он видит,
Прямо вверх растут рога!
Он очнулся уж под лесом,
И тут лишь только понял он,
Что сидел в трахтире с бесом,
С настоящим целиком.
ДАЛЬНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ЖИЗНИ
И вдруг подошла пора… Что это было за времечко! При одном только воспоминании мутить начинает.
Представьте: в пруд бросают камень. От этого рыба, конечно, разбегается, ища себе другого приюту. Потом долго не умолкают круги. Что есть Гогулев? Тот же пруд без никаких сомнений. И вдруг камень. Именно: кто есть мы? Мы есть рыбы! Не в ругань или осуждение, а для точности смысла обозначу я благодетеля моего через щуку, ибо он длинен телом и любит глубину. И. С. Хрыщ есть осетер, судя по праздничному позументу. Кто назовет Обувайлу кроме как севрюгой? А Михайло Иваныч есть скользкий налим (он быстр на слова и лыс в высшей степени). Ну, одним словом, и так далее. Я же — карасик, как я теперь дошел, об нас разговор только после сковородки. Карась для того и родится, чтоб его жарили. Вышло, будто выловили нас всех и посадили в ведро. Время же то, как мы из Гогулева смотрим, подобно вполне кручению ведра на палке.
В то время у нас война была. Это мы знаем, что война. К. Г. купил билетов военного займа, потому что родина, как-то неловко. Кроме того, рекрутов у нас взяли. Бибин их всех напоил у Самыкина, провожали с музыкой, выдавая каждому бесплатно по иконке (разного содержания), по фунту свеч и по рублю на брата. А я стоял в сторонке, и сердце во мне обливалось кровью целиком. И хотелось мне выйти на Козью горку и закричать на весь свет: «Господа, не убивайте молодых! Никакая кровь не создана, чтоб ею землю мочить… Живите без ерунды!» Но с Козьей горки на весь свет не накричишь, и я смолк в полнейшей тоске. Потом пошла война. До нас вести доходили скудно, да и боязно было как-то узнавать: а вдруг дела плохи? Что мне тогда делать, — мне, Ковякину? Плакать, кусаться, на хвосте скакать? Да у меня и хвоста-то нету!
Читать дальше