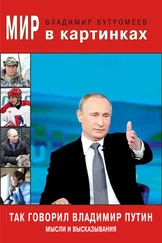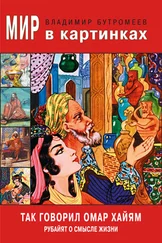Назавтра в школе выяснилось, что глаз у Кольки цел. Просто от удара у него прорвался огромный нарыв — «ячмень», как у нас говорили. Мы тогда смеялись, что Колькин «ячмень» спас наших одноклассников от полного разгрома. Сам же Колька спас их от позора — именно он остановил тогда всех своих во время бегства.
Я хорошо помню Кольку Шило. Стриженный наголо, с острыми, угловатыми плечами, в старенькой рубашке, он казался мне воплощением смелости и открытости.
Мать его работала продавщицей в нашем маленьком магазинчике. Отец пил. Детей в семье было четверо, Колька самый старший. Потом они переехали в деревню километров за десять от нас. Мать на новом месте работала завпекарней. Лет через десять я встретил Кольку в городе.
Колька Шило, когда-то смело остановивший бегущих одноклассников, чтобы принять отчаянный бой, стоял теперь передо мной — невысокий, упитанный, в шерстяном, глупо цветастом дорогом свитере. Лицо его выражало странную и неприятную смесь заискивания, осторожности, какой-то подобострастности с затаенным самодовольством. Казалось, что каждый миг он хочет опасливо оглянуться. Я привык избегать людей с такими лицами. Осторожно и с поощрительной доброжелательностью своего человека он расспросил о моих перспективах (я кончал учебу) — где могу устроиться, зарплата.
Я почему-то спросил про отца, он сказал, что отец вылечился от алкоголя, работает, неплохо получает: «А мать?» — «У матери пекарня». Он в самом деле оглянулся. Я вспомнил, что завпекарней в деревне называли завприпеком. Потом разговор пошел о джинсах, о том, что где можно достать, о японском магнитофоне.
Когда Колька ушел, я понял, что значит рвать живые нити детства. Но через несколько дней я встретил Машу и почувствовал это еще сильнее.
Историю про Машу нужно начать с рассказа про Бубыря. Бубырь был в нашей «шайке» на уровне атамана, но держался как-то особняком. Высокий, с черными вьющимися волосами до плеч (все носили тогда «боксы» и «полубоксы», а то и стриглись наголо), он за счет упорства и смелости мог выстоять в драке против пяти «барачных» — и те его боялись. Не знаю, как (от нас до райцентра больше сорока километров) он связался с городской шпаной и участвовал в попытке залезть в райунивермаг. За это попал в детскую колонию. После его отправили в детскую трудовую школу. Мать его была больна и сама к тому времени лежала в лечебнице. Когда Бубырь явился «на побывку», мы всей «шайкой» собрались у него. Он долго рассказывал про колонию, про ее обычаи. Потом он надел шляпу с узкими полями, модное осеннее пальто, и все вместе мы прошлись по поселку. Прежние достоинства, колония и новая щегольская одежда возносили его на недосягаемую высоту. Остановившись у освещенных окон магазина, Бубырь сказал нам: «Скоро деньги и у вас поменяют, — и достал из кармана двадцать копеек. — Возьми, — сказал он мне, — купите конфет». Я нерешительно взял монетку. Чтобы хватило конфет, даже самым малолеткам нашей «шайки» нужно было рубля два. На двадцать копеек купишь разве что две коробки спичек.
Но продавец, рассмотрев мои деньги, свесила полкило знаменитых подушечек. Когда я вышел из магазина, все, даже самые взрослые, взяли попробовать этих конфет, купленных за двадцать копеек.
А поздно вечером, когда я вернулся домой, меня ждала Маша. Мы жили с ней по соседству, вместе ходили в школу. Я класс во второй, она в восьмой. Маша считалась самой примерной ученицей. Она участвовала во всех кружках — от драматического до астрономического, во всех спортивных секциях. Но ни учителя, которым она казалась девочкой, сошедшей с плаката «Правила поведения и обязанности учащихся IV—VIII классов», ни старушка мать, работавшая сторожихой на спиртзаводе, не знали и не догадывались о второй ее жизни. Ее стройные ноги, с по-детски крупными, красивыми коленками, аккуратное, восторженное личико, ловкая фигурка в синей юбочке не давала покоя всем ранним донжуанам. Да и ее тянуло к ним какой-то ей самой еще непонятной силой.
Маша начала расспрашивать меня о каких-то школьных делах так путано и сбивчиво, смущаясь на каждом слове, что я никак не мог понять, что она хочет. Наконец, когда вышла мама, Маша, смутившись еще больше, спросила, когда уезжает Бубырь. Я сказал, что завтра. В этом не было никакой тайны.
До самого последнего часа она не могла решиться. Но все же, первый раз в жизни, сбежав с двух последних уроков, Маша пошла к Бубырю. Пошла сказать, что влюблена в него и с тайной надеждой, что он, может, поцелует ее, и этот поцелуй останется у нее единственным на всю жизнь.
Читать дальше