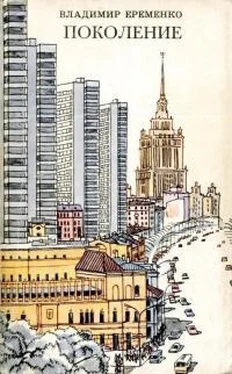«А почему только моя обида? — спросил он себя. — Ведь обида Лены больше». Но тогда он видел только свою обиду. Она затмила все. Тогда Степан знал одно — надо скорей уехать, надо спасать себя, надо все забыть. Она требует, она молит — он сделает…
Выходит, его ослепила тогда обида? Глупо. Нет, было что-то поважнее и глубже…
«Понять — значит простить, — подал из пьесы реплику Карпов и, вздохнув, добавил: — Но это приходит с годами».
«Наверное», — согласился Пахомов. Его тогда не поняли, отвергли, прогнали… не простили. И кто? Самый близкий человек. «Если бы я тогда не был разгильдяем, если бы не полетел на юг, если бы… если бы…» Сколько лет его терзали эти «если бы», как он казнил себя! Но что его терзания в сравнении с тем, что произошло…
Пахомов попрощался со сменным инженером и вышел из цеха. Весь остаток дня он бродил по заводу, оставляя КБ на вечер. Ему нужно привести мысли в порядок, слишком много нахлынуло, а главное, подготовить себя к встрече с Леной. Он рассматривал новые станки в механическом, долго пробыл у автоматической линии, где никто ему не мешал думать, ходил по литейке, потащился обедать в цеховую столовку; в нем весь день жили два разных человека: один зорко следил за всем на заводе, запоминал, говорил с людьми, другой хмуро смотрел внутрь, отбивался от воспоминаний и никак не мог отбиться. Везде была Лена.
Он знал: чтобы оборвать воспоминания, нужно думать о другом. Надо повернуть мысли на его теперешнюю работу. Это не он, Пахомов, а его герой, крупный ученый, через полтора десятка лет ходит по цехам завода, где работал инженером, и его обжигают воспоминания. Каким он был тогда? Молодым, полным энергии, самоуверенным, нет, уверенным в себе, потому что все еще было впереди. А каким ощущал себя тогда Степан Пахомов? Да таким же. Институт, завод, конструкторское бюро — только его начало. Степан обнаружил, что вновь думает о Лене…
А что же было тогда, когда он уехал? Вышла его повесть «Конструкторы». Была радость, но радость куцая. Повесть хвалили в газетах и журналах. Пахомова называли молодым способным писателем, а он ждал, что скажут его заводские друзья. Они молчали. Молчала и Лена. Потом от Михаила Бурова пришло большущее письмо. Он разоблачал и обличал автора. В повести все было не так, как в жизни, как на их заводе. «Ты-то знаешь! Или уже не заводской человек?..» Друг бил в самое больное место.
«Знаю, Миша, знаю», — мысленно отвечал ему Степан. Но ведь никто не хочет понять того, что знает и чувствует он, Пахомов. Никто! И не надо корить человека за молодость.
Молодость права! Права уже одним тем, что она ближе к будущему. Он сам знает цену и себе и этой повести. Он еще ничего не сделал. Настоящая работа не терпит любительства. Старая, как мир, истина: все надо делать профессионально — а он до сих пор занимался любительством. Он докажет всем и, естественно, Леночке, на что способен. Она еще не раз горько пожалеет, когда будет видеть книги Степана Пахомова. Он еще явится к ней на белом коне.
Мальчишка! Боже мой, и это в двадцать семь лет? А может, был прав Миша Буров, когда отговаривал его покидать завод, считая писательство баловством?
Нет, писательство для него не баловство, а вот уехать он поспешил. Конечно, не бежал, как говорит Михаил, а поступил опрометчиво. Если бы в молодости люди не совершали ошибок!
«Молодость не была бы молодостью, — опять прервал его старший научный сотрудник Карпов. О себе он говорит: — Для бездарных ученых умные люди придумали звание научный сотрудник, а я еще и старший».
Все язвит этот Карпов. Ладно, ему можно. А вот другие в его пьесе что-то притихли. Неуютно им на этом заводе… Что ж, пусть помолчат.
Так что же его писательство? К нему бы он все равно пришел. Не в двадцать семь, так в тридцать, сорок лет… Сколько он себя помнит, литература и история были ему ближе математики и физики. Даже когда учился в политехническом, зубрил механику, сопромат, гидродинамику, литература, философия и другие «интеллигентные» науки (свои технические называл «рабочими») всегда влекли его. Он вознаграждал себя за работу игривой фразой: «А теперь на десерт». И брал в читалке новый литературный журнал.
Любил статьи, где шли споры, высказывались противоречивые мнения, по многу раз мог прочитывать одну и ту же фразу, пробуя каждое слово на зуб, как говорят. Открыл для себя немало мировых имен. Тогда Степан еще не знал, кто такой Хемингуэй; от институтских друзей услышал, что это современный американский писатель. Достал его книгу со странным названием «Старик и море», прочел ее и ошалел. Да, именно ошалел, потому что другого слова для передачи своего состояния не находил. Писатель открывал такую глубину человеческих чувств, что становилось не по себе.
Читать дальше