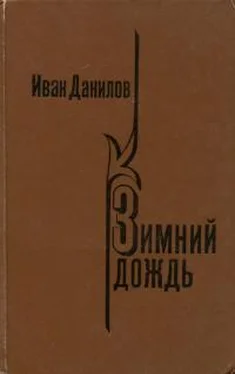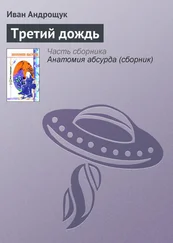И еще много, много фотографий: по бокам, сверху и снизу от этих двух. И все знакомо, много раз видано: от молодых в день их свадьбы, где жених негнущимися пальцами держит руку напряженно-скованной невесты в фате, до скорбно склоненных голов над покойником, тонущим в цветах. И почти под каждой крышей над всем этим, выше других рамок, — отдельный мутновато-раскрашенный портрет, увеличенный после войны. Более тридцати лет молчаливо смотрит он давними глазами на поседевшую, приниженную годами и горестями жену, на детей, ставших старше его. Это тоже стало привычно и уже не удивляет наших глаз. Порою только вздрогнет сердце, если в доме пожилого одинокого человека увидишь рядом с карточками чистолицых парнишек с осоавиахимовскими значками газетный портрет недавно погибшего космонавта.
Бывает, тут же, но только с наружной стороны стекла, воткнута и открытка с цветком или красным флагом — редкий поклон сына или дочери, канувших в городах.
В чужих домах мы все-таки глядим на фотографии, хоть и бегло и чаще всего в какую-нибудь неловкую минуту, когда совершенно нечем заняться или не о чем говорить. А вот дома, у родителей, куда порой занесет попутная дорога, иногда и не повернешь головы к стене, где висит такая рамка. А ведь там целая летопись рода, твой исток. Да разве найти время нам, деловым, торопливым людям, для таких сентиментальных занятий? Ну уж если, скажем, не был ты в родительском доме лет пять-семь, тогда еще и бросишь мимолетный взгляд туда, где сидишь ты сам, кругломордый, бездумно-счастливый, и, покосившись на зеркало, отметишь, как мало похож на тебя тот мальчик, и грустно подумаешь: годы-то как идут! Недавно, кажется, фотографировался. Ну да, на втором курсе культпросветшколы… Двадцать лет прошло… И после этого долго будешь стоять у стены и вглядываться в фотографии матери и отца, сестры, которой писал и не вспомнить уж когда. Лица хорошо знакомых людей как бы заново откроются и озарятся ранее неведомым светом.
В городской квартире моей нет такой рамки, здесь это не принято, интеллигентные люди насмешливо называют их иконостасами. Фотографии деревенских родичей не выставляются на глаза: может, стыдятся их корявых, тяжелых рук или немодных пиджаков — кто знает, только снимки эти хранятся в толстых пыльных альбомах на дне книжного шкафа или где-нибудь в глубине серванта, и на свет божий вынимают их редко, когда нечем занять какого-нибудь нечаянного гостя. Есть такой альбом и в моей квартире, но в нем немного портретных снимков, все больше пейзажи удивительных краев, где мне случалось бывать: закаты и восходы на Белом море, лесистые горы Алтая, речные водопады… А лица родичей моих — там, в материнской хате, в рамке с узорами.
Рамка та старая, лет двадцать пять назад выпросил я ее у зареченской бабки Капитолины, матери отца, вместе с лубочной картинкой, изображающей торг коробейников. Привлекли меня тогда не столько рамка и даже не картинка в ней, а выдавленные в дереве слова: «Папиросная и гильзовая фабрика Дувон и К°». Видно, неотразимо еще действовало на меня слово «гильзовая».
Четверть века висит рамка в материнской хате. В последний приезд в станицу мать сказала мне, что надо вынуть и увеличить карточку дяди Феди. Об этом просила ее бабка Саня. Она жила теперь одна на кухне, отдав свой дом самому младшему внуку Володьке, вынянченному и вскормленному ею. Теперь он женился, и бабка перешла жить в кухню. Детей у нее было много, внуков и того больше, но в своем новом жилище она хотела повесить большой портрет сына, убитого на войне, ее и теперешнего кормильца: за него бабке Сане идет пенсия.
Карточка эта всегда, сколько я помню, стояла в верхнем правом углу рамки. Тут была она и теперь. Мать вспоминает, что снимался Федя за несколько месяцев до войны в новой кремовой рубахе, а его товарищ Пашка (они вдвоем сфотографированы) — в голубой. Но на фотографии этого не видно — однотонно-зеленоватый снимок.
Дядя Федя и Пашка были друзьями и перед уходом на действительную службу решили сняться вместе. Хотели во весь рост, да фотограф рассоветовал: на Феде были брюки, сшитые из карты мира. Ну, не из самой бумаги, конечно, а из холстинной подкладки, на которую наклеивалась карта. Когда он купил ее, то три дня сидел на реке, отмачивал бумагу и обдирал ее на сухом песке, по-другому было нельзя — материал мог испортиться. Холстину бабка Саня покрасила, но городской фотограф все равно забраковал его «мировые» штаны. Так и снялись друзья в пояс.
Читать дальше