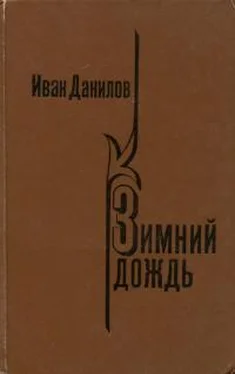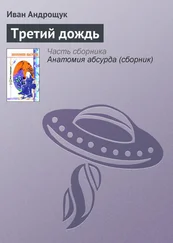— Да это просто, — оживился Колька, — долбишь дырочку, в нее немножко пороху и патрон. Потом подожгешь…
Мы глядели на Кольку, раскрыв рты. Как же это мы раньше не догадались, что так можно?
Аркадий Петрович поймал наши заинтересованные взгляды и сказал суховато:
— Идите домой, ребята. Я один с ним разберусь.
Учебный год начался…
Война стронула со своих мест и людей, и птиц, и погоду. Уже в середине ноября легли большие снега. Им бы еще бродить да бродить белыми облаками, но кругом ухало, гудело и казалось, что небо прохудилось, и снега обрушились до срока. Они шли днем и ночью. По утрам на плетнях, заметенных сугробами, родничковцы замечали ранее невиданных здесь красных птиц — снегирей. Их тоже откуда-то пригнала война.
Четвертый месяц шли бои за Сталинград, четвертый месяц родничковцы видели по утрам вместо малиновых зорь багрово-дымные отсветы, и глухая тревога, крадучись, бродила по станице. Люди верили чужим слухам и своим снам, потому что вести с фронтов приходили отрывочные и часто окольным путем. На всю станицу был один радиоприемник — в избе-читальне, но он уже давно молчал, говорили, что кончилось «питание». Газеты тоже приходили нечасто, да и читать их нашим малограмотным матерям не всегда хватало времени. Самыми осведомленными людьми были мы, школьники. Каждый урок истории Аркадий Петрович начинал с того, что рассказывал о положении на фронтах. Но вот и Аркадий Петрович с первыми холодами добровольцем ушел на фронт. Запомнился его последний урок. В тот день он не стал рассказывать о жизни в древние века, он говорил нам о Москве. Аркадий Петрович рассказывал, как учился там в рабочем университете, говорил о музеях, соборах и больше всего о Третьяковской галерее. Показывал открытки, на многих из них были нарисованы места, очень похожие на наши — дома в синих сугробах, ветхий мостик над ручьем, склоненная ветром рожь. Уже в конце урока, когда в коридоре зазвонили, Аркадий Петрович сказал:
— Ребята, мы расстаемся, очевидно, надолго. Я ухожу на фронт.
Весь класс вскочил, будто по команде. Мы растерянно глядели на своего директора, а он, щурясь, шарил рукой по столу, искал очки и, найдя их, улыбнулся стеснительно.
С уходом Аркадия Петровича жизнь в станице стала еще тревожнее, мы поняли вдруг, что он для нас был больше, чем просто учитель…
В конце ноября, придя в школу, я нашел в своей парте листок, названный святым письмом. В нем говорилось, как какой-то мальчик видел бога, и бог велел ему молиться, потому что приближается конец света, и все неверующие скоро погибнут. Еще было написано, что с того, кто перепишет это письмо девять раз и раздаст знакомым, снимутся все грехи. Я покрутил в руках листок и хотел выбросить — особых грехов за собой не числил, но вдруг подумал об отце, и мне стало страшно.
На уроке я плохо слышал учителей и все думал о том, как быть с письмом. Тут еще учительница мешала своей «Песней о вещем Олеге», и я решил додумать на перемене. Но едва урок закончился и учительница вышла из класса, Юрка Чапаенок выскочил к доске и крикнул:
— Послушайте, какое я письмо получил! — И стал читать уже знакомое мне.
Все испуганно глядели на Юрку, потом стали вынимать из карманов и из сумок точно такие же листки. Оказалось, почти всем подсунули письма. И от этого стало легче.
— Может, все-таки написать несколько штук, — неуверенно сказал Вовка Волдырь, разглядывая бумажку. — Мы же знаем — бога нет, а так…
— Да ты что? — засмеялся Юрка. — Мы пионеры…
— Тебе хорошо, у тебя отец дома, — хмуро буркнул Володька.
— Давайте их соберем и порвем, — предложил я. — Все вместе.
— Надо отдать в учительскую, — крикнула Енька. — Пусть найдут, кто писал.
— А ты получила? — повернулся к ней Волдырь.
— Нет.
— Ну и не лезь…
Спорили всю перемену и уже под самый звонок на глазах друг у друга порвали письма.
Было воскресенье. Я никуда не спешил, лежал на теплых кирпичах печи и сквозь дрему слышал, как мать носила в хату кизяки, гремела ведрами, дула, разжигая печь. У нее что-то не клеилось, и, в сердцах громыхнув рогачом по кирпичам, мать позвала меня:
— Ты проснулся? Сбегай к Железняковым за жаром, заглохло все.
Я быстро оделся, сунул ноги в валенки и выскочил на улицу. Над Родничками, заметенными снегом, уже стояли разноцветные дымы…
До сих пор отчетливо вижу зимнюю станицу военных лет. Глубокие, непроходимые снега на огородах, во дворах, но на улицах от ворот до ворот хорошо пробитые стежки. Война сблизила людей, заставила забыть ссоры, стушевала обиды. В беде человек не может жить в одиночестве. А горе не обошло ни один родничковский дом, и люди шли друг к другу. Шли почитать письма, бежали к дому, откуда вырывался женский крик, собирались в чьей-нибудь хате скоротать долгую зимнюю ночь, по утрам, выследив, из чьей трубы потянул дым, торопились с совками за жаром.
Читать дальше