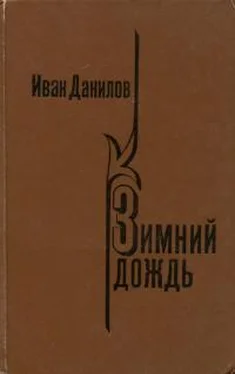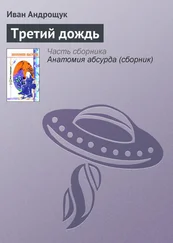Из-за деревьев завиднелись крыши домов, и Мишка сказал:
— Сунь наган за пазуху, а то еще встретит кто…
— Ну и пусть.
— Тебе — пусть, а мне влетит, — сердито огрызнулся он. — Вчера уж и так мать в Совет вызывали. Жучили за меня.
— Исай, что ли, нажаловался?
— А то кто же? Чуть политику не пришили. Говорят, нападение на Советскую власть. Спасибо Буланкин заступился…
— Какая он власть? — удивился я.
— Не знаю, — признался Мишка, — над дезертирами, что ль, главный.
Я поспешно сунул наган под рубаху — идти стало труднее, спадали штаны, нужно было поддерживать и их и наган да еще тащить коробок.
Впереди нас в темноте замаячило белое пятно.
— Бабка какая-то, — сказал я.
— Ага.
Но шла не бабка, а Талька. Прихрамывая, она несла ведро, прикрытое лопухами. Увидев нас, подалась в сторону, уступая нам дорогу. Но мы не стали ее обгонять.
— Эй, куркулиха, — крикнул Мишка, — чего тянешь?
Талька не ответила, лишь ускорила подпрыгивающий шаг.
— Чего несешь, спрашиваю? — сердито переспросил Мишка.
— Терн… — хмуро отозвалась Талька.
— Дашь покушать?
— Возьмите, — Талька остановилась и сняла с ведра лопухи.
Мишка зачерпнул горсть, бросил тернины в рот.
— Ничего, сладкий, — похвалил Мишка. Я тоже взял несколько штук.
— Берите больше, — разрешила Талька.
— Ну да, а потом тебя отец будет лупить, — сказал Мишка.
Она промолчала.
— Сильный у вас терн? — поинтересовался Мишка.
— Сильный.
— Залезть-то можно?
Талька робко улыбнулась.
— Нет, правда, — начал он уговаривать Тальку. — Давай вместе. Ты там с отцом поговоришь пока, а мы нарвем…
— Берите вот, — Талька переставила ведро.
— Этот не интересно… Ну, поможешь нам?
— Темно сейчас, — растерянно проговорила Талька.
— Да не сейчас, завтра днем. Ладно?
Талька покорно кивнула головой.
— Зачем столько насадила-то? — спросил Мишка. — Тяжело ведь… — Талька со вздохом взялась за дужку ведра.
Мишка дернул из моих рук коробок, кивнул на ведро:
— Помоги…
И мы пошли втроем. Совсем стемнело, никто не видел, что мы идем с девчонкой и несем ее ведро, но все равно чуть-чуть было неловко перед собой…
Станица зажгла свои недолгие огни. Жидкие и немощные, они едва зажелтили окна. Я глянул на свою хату и задержал шаг — наши окна горели непривычно ярко. Стало тревожно, и я торопливо попрощавшись, побежал. Мчался по улице и ничего не видел, кроме света окон. Что-то случилось, раз мать зажгла лампу. Обычно в хате горела коптилка — гильза с крученым ватным фитилем. А семилинейная лампа с отбитым и заклеенным газетой стеклом стояла на самом верху полочки. Керосин продавали редко, и мать зажигала лампу только в очень большие праздники.
Не закрыв на щеколду дверь коридора, я влетел в хату и остановился на пороге.
У стола сидели мать, тетя Маня и Марта-беженка. Они ели красные помидоры.
— Отец письмо прислал, — сказала мать и показала мне листок, который лежал тут же на столе. Мать сидела в чистой белой кофточке, хорошо причесанная, большие косы тяжелым узлом лежали на голове, и лицо ее было добрым и неуставшим.
— Можно почитать? — потянулся я к письму.
— Читай.
Отец сообщал, что они попадали в окружение, и потому он так долго не писал нам. Сейчас они вышли к своим и опять бьют фашистов. Еще он передавал всем поклоны и несколько строчек писал прямо мне — просил помогать матери и хорошо учиться. Это на одной стороне листка. А на другой я увидел рисунок. Солдат в погонах и пилотке глядел на меня отцовскими, чуть насмешливыми глазами. Под рисунком — продолжение письма, опять уже матери:
«Тоня, ты просила прислать карточку. Но сфотографироваться тут негде. Посылаю вам с сыном рисунок. Рисовал мой товарищ. Правда, похоже не очень, но переделывать нет времени, через полчаса пойдем в бой. Живы будем — сфотографируемся вместе после победы».
Я прочитал письмо, и мать забрала его, гости опять разглядывали рисунок, и тетя Маня все находила в нем новые черточки сходства с отцом.
…Вот я опять гляжу на этот рисунок, сделанный неизвестным художником двадцать шесть лет назад. Так он и остался единственным отцовским портретом. До войны отец не фотографировался — считал ненужным делом, а потом не успел… Нет, в сорок втором под Сталинградом он не погибнет. Он еще дойдет до Одера и там, на чужой земле, упадет, подкошенный пулей.
Теперь трудно сказать, насколько схож лицом мой отец с нарисованным бойцом, но мне дорог этот солдат. В детстве мне нравилось глядеть на его погоны, на пилотку со звездой. Теперь я вижу рисунок иначе: я не замечаю погон, а вижу только усталое, напряженное лицо. Вероятно, окопный художник не был хорошим портретистом, но он нарисовал отца таким, каким были солдаты: усталым, с непреклонной волей пройти все, ради освобождения родной земли. Я показываю этот рисунок друзьям и говорю:
Читать дальше