На тюремном дворе дожидался крытый грузовик, в котором уже находились человек десять, приговоренных к расстрелу. Бородача оттеснили. Федор протиснулся вперед; хотя его ругали, но он добился своего и снова оказался возле бородача. Он чувствовал, что тому стало хорошо оттого, что они опять рядом.
Их везли час или больше, прежде чем грузовик остановился и им приказали слезать. В утренних сумерках он увидел, что их привезли к поросшему редкими сосенками песчаному склону. Машина была окружена, что исключало возможность побега. Он подумал об этом механически, он и не искал сейчас подходящего мгновения к побегу и в кузове машины думал совсем о другом. О бородаче, который до последнего оставался твердым человеком. На съезде Борода выглядел совсем молодым, моложе своих лет. Он подумал тогда, что этого молодого мужчину, который к тому же принадлежал к другой партии, нельзя выдвигать, пускай сперва подтвердит делом, насколько он коммунист. Поэтому он и выкрикнул «нет». Ему казалось, что делегаты, поддерживавшие бородача, сильно ошибаются. Теперь, стоя с ним бок о бок, он понимал все глубже, что ошибся, что не понял честного человека, убежденного борца.
Общая могила была уже вырыта. Ее черневшая пропасть ясно обозначалась на беловато-серой песчаной поверхности. В голове мелькнула мысль, что в песчаной почве легче копать — яму и что здесь отдаленное место, в стороне от поселений.
Их поставили в ряд. Спиной к яме.
Руки у него были свободными. Рук никому не связывали.
Люди подчинялись громким приказаниям, грубым выкрикам. Бежать никто не пытался. И он, Федор, тоже. Он и не думал теперь об этом. Хотя и мелькнуло в сознании, что далеко не убежать. Солдат и полицейских было слишком много, цепь плотная.
Ему было хорошо оттого, что он владел собой и держался так, как должен держаться непреклонный в своих убеждениях человек. Рядом с ним на краю черневшей ямы стоял Борода. Стоял твердо, плечи их соприкасались, всех их очень плотно сдвинули: яма оказалась недостаточно длинной. Глаза, искавшие друг друга, наконец встретились.
Распоряжавшийся начальник был чем-то недоволен, послышались новые команды, полицейские бросились еще плотнее сдвигать заключенных; сосед слева, у которого дрожала нога, навалился на него, и Федор покачнулся. Борода поддержал. Они снова обменялись взглядами, будто два давних друга, два старых товарища. В глазах бородача он не увидел страха, это был взгляд мужественного человека. Тревожный. Это верно, что тревожный. Но тревожный взгляд человека, выстоявшего до последнего. Взгляд человека, который готов к тому, что будет.
Они взяли друг друга под руку. Они поддерживали друг друга.
До конца.
Перевод А. Тамма.
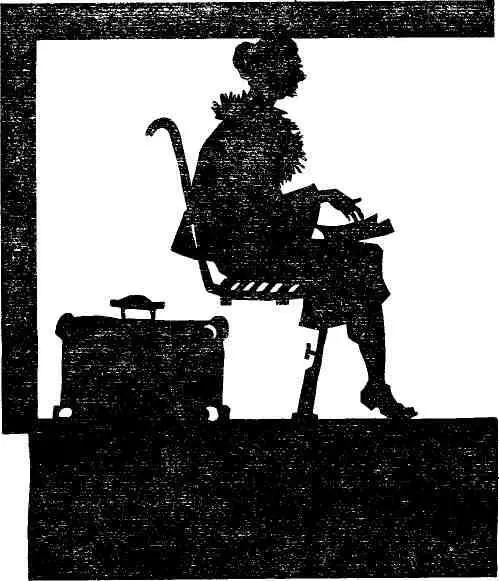
Со стороны могло показаться, будто эта старая женщина спит, откинувшись в кресле. Она сидела неподвижно, глаза ее были закрыты. Но на нее никто не смотрел, рядом с ней расположился юноша, он читал какой-то журнал и к своей соседке справа не проявлял никакого интереса. Только молоденькая стюардесса, сновавшая по проходу между креслами, время от времени бросала на нее испытующий взгляд: ей казалось, что старушке нехорошо с сердцем. Но Мария Лыхмус не спала. Просто она очень устала и отдыхала теперь, испытывая облегчение оттого, что все обошлось, что она благополучно успела на самолет и, даст бог, доберется до конечной цели путешествия. Не только в Москву, а оттуда в Таллин, но и домой. Быть может, она вообще-то и напрасно тревожилась, пожалуй, можно было бы еще погостить у сына — столько, сколько предполагала поначалу, то есть все три месяца; быть может, внутреннее чувство обмануло ее и она проживет еще невесть сколько лет. Но тут же Мария Лыхмус поняла, что нельзя больше себя обманывать, что спешила она не зря, — наоборот, даже запоздала. Ей нужно было возвращаться сразу, когда она проснулась ночью от удушья, вся в поту, не следовало успокаивать себя, что все обойдется, что зимой сердце барахлило куда как серьезнее и все же она выкарабкалась и встала на ноги. Но зимой она лежала в больнице под присмотром врачей, а теперь была на чужбине и лечилась сама, как умела. Конечно, и в Англии были больницы и врачи, но у Марии не укладывалось в голове, что она должна довериться врачам на чужой стороне, лечение заняло бы много времени, а как раз времени-то у нее и не было. Так, по крайней мере, она чувствовала, и это чувство определило все ее поведение. В ее-то годы да с ее здоровьем разумный человек вообще не отважился бы на такой далекий путь, а она словно голову потеряла. Но тут старая женщина, которую дома все звали не Марией Лыхмус, а матушкой Лыхмус, хотя жила она одна как перст, тут она поняла, что поступить иначе не могла, она должна была увидеть сына и его семью, что не нашла бы она покоя, не поговорив с Энделем. Средний сын был единственным из четырех детей, который у нее еще оставался. Другое дело, что ей следовало поехать к сыну раньше, до того еще, как здоровье совсем сдало. Если она в чем-то и ошиблась, то не в том, что поехала к Энделю, а в том, что так поздно собралась. Ей нужно благодарить бога за то, что она перед смертью увидала сына, что ее сердце на чужбине не сдало и теперь она на пути домой.
Читать дальше

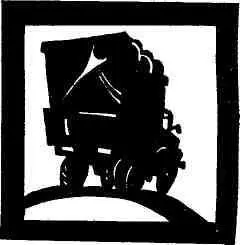
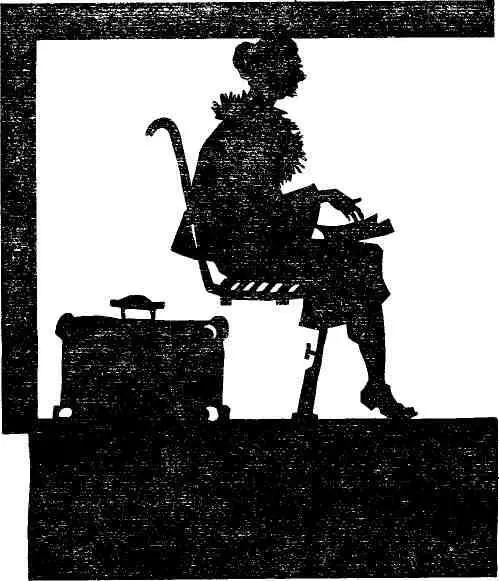

![Пауль Хоровиц - Искусство схемотехники. Том 3 [Изд.4-е]](/books/67158/paul-horovic-iskusstvo-shemotehniki-tom-3-izd-4-e-thumb.webp)

![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/176315/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz-thumb.webp)




