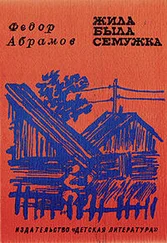— Ничего не знаю, ничего не пойму, кто… откуда…
Я бессмысленно покачал головой. Со двора Эзики несся все тот же звериный рев, В глазах у меня потемнело.
«И Фома не знает».
Очнувшись, я увидел возле себя Тухию с братьями и сестрами.
— Что? — спросил я. — Что там?..
— Эу-у-у! — ревел кто-то во дворе Эзики.
— Пати! Пати!
— Пати! Пати!.. несчастная! — сливаясь с ревом, донеслись голоса.
— Пати!
— Пати!
— Пати! — закричал и я, вскочил и бросился к дому Эзики, протиснулся через толпу во дворе. Человек десять едва сдерживали обезумевшего Эзику. Я вбежал на веранду, протолкался сквозь набитую людьми комнату прямо к боковушке, откуда неслись отчаянные крики и причитания, прорвался и…
На полу у кровати в дальнем углу комнаты плавала в крови Пати, а на постели истошно кричал новорожденный. У порога боковушки валялся дробовик Гочи, старательно заряженный мною в тот вечер. Ни я, ни Гоча, ни Эзика до сегодняшнего дня ни разу не вспомнили о нем…
Кончилось все.
Все кончилось.
Кончилась война, начавшаяся для меня четыре года назад с игры в чижа, — конец войны я встретил хмурым юношей. За эти годы я видел все. Видел море слез и горя, познал большую любовь и измену, стал отцом и…
Чтобы сделать добро, нужно время. У меня времени не хватило, и я невольно совершил зло.
Я невольно изменил первой чистой любви. Я стал отцом единственного ребенка, родившегося за четыре года войны в нашем селе…
Мне только семнадцать лет, но великая тяжесть лежит на моих еще не окрепших плечах.
И все же я говорю: не моя в этом вина.
Я не виноват!
Девятого мая я не усидел дома, вышел на улицу.
— Сегодня девятое мая… — сказал я, проходя мимо дома Гогоны.
Эх, Гогона, моя Гогона!..
Я брел мимо дома Пати, голова кружилась, звенело в ушах.
Крики мальчишек вывели меня из забытья. На поляне собрались четверо, один из них был Чичия — брат Тухии, другой — мой брат Заза.
— Становись на черту!
— Отойди подальше, назад.
— Мазила!
— Бросай, чего рот разинул!
Пятачок, с которого начиналась игра, затянуло травой.
Мальчишки вырыли на нем маленькую лунку. Зеленая трава и желтые лютики были истоптаны ногами. Ребята с криками носились за чижом.
— А ну, давай!
— Давай, давай.
— Догоняй!
Откуда-то появилась женщина в длинном черном платье. Она подошла к ребятам и, заглядывая каждому в глаза, спросила:
— Не видели моего Амбако?
— Амбако? — удивились мальчишки.
— Да, моего Амбако. Он обещал скоро вернуться…
— Вернется, бабушка, вернется! — отмахнулись мальчишки и, гомоня, погнались за чижом.
1960 г.
Перевод А. Старостина, Ф. Твалтвадзе, А. Эбаноидзе.
В горнострелковом подразделении, сильно поредевшем от бомбежек и непрерывных схваток с врагом, не нашлось переводчика; на пороге землянки, при входе в которую даже невысокий солдат вынужден был пригнуться, лежали два связанных по рукам и ногам солдата в зеленых мундирах, и допросить их было некому.
А на рассвете предполагалась решительная атака на позиции немцев, захвативших перевал, и каждое слово безмолвствующих «языков» ценилось дороже золота.
Разумеется, в штабе имелись переводчики, но туда не добраться до утра, да и переводчика из штаба не отпустят. А тащить по крутым, кремнистым тропам, десятки километров двух упирающихся верзил тоже дело нелегкое.
Вошедший в землишку красноармеец нерасчетливо выпрямился, ударился головой об присыпанные землей бревна наката и рукой, поднятой для отдания чести, невольно схватился за темя.
Младший лейтенант, сидящий на бревне у стены, подвинулся, предлагая вошедшему сесть.
Солдат наклонился, но сел не раньше, чем получил разрешение командира.
— Вот и Габулдани… — командир с густой щеткой усов и глубокими складками на лбу взглянул на вошедшего и кивнул, — присаживайся…
Вечером того же дня солдат верхом на коне галопом ворвался в узкий, смердящий навозом проулок между башнями и хозяйственными постройками, и, сопровождаемый яростным лаем деревенских собак, промчался по селу.
Нигде не сдерживая галопа, он подлетел к каменному дому возле большой сумрачной башни, спешился, не обращая внимания на охрипшего от лая пса, не окликая хозяина, открыл плетенную из прутьев калитку и ввел коня во двор.
Читать дальше