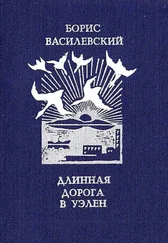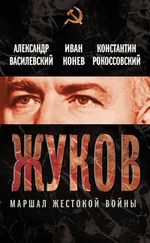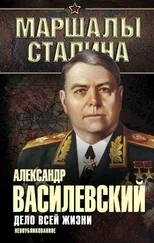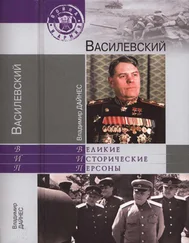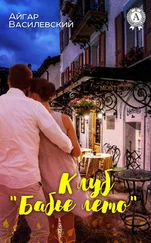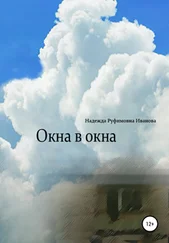Словом, Уэлен — это Уэлен. Представить Чукотку, как прежнюю, как нынешнюю, так и будущую, без этого поселка — невозможно. И вот почему, несмотря на то, что Уэлен признан хозяйственниками «неперспективным», никто не ставит вопрос о его «закрытии», — наоборот, как мы видели, поселок продолжает застраиваться и населяться. Рост Уэлена без расширения в нем производства, кажется мне, объясняется еще вот чем. В конце 60-х годов возникла мысль превратить Уэлен в образцовый, наисовременнейший чукотский поселок и даже «запустить в него интуриста», то есть эскимосов с той стороны пролива. Тогда же появился и вышеупомянутый проект его застройки. Затем эта идея как-то сама собой заглохла, но не насовсем, и то, что в Уэлене вместо шести оригинальных многоэтажных зданий выстроились и продолжают строиться обыкновенные двухэтажки, есть, как мне думается, некая инерция, какой-то отзвук, весьма приблизительное и слабое, но все-таки воплощение той идеи… Сейчас будущее Уэлена пока неопределенно. Я говорил, что его хотят сохранить, разместив в нем отделение объединенного совхоза. Кроме того, ходят слухи, что собираются вернуться к прежнему проекту — образцового чукотского поселка. Вот это, конечно, было бы справедливо, особенно сейчас. Действительно: если уж так исторически необходимо, чтобы исчезли старые чукотские поселки Нешкан, Энурмино и Инчоун, то пусть хоть Уэлен останется являть собой образец такого — настоящего, чукотско-эскимосского национального поселка. Что для этого следует предпринять? В те дни, живя на уэленском берегу, и потом, вернувшись в Москву, я основательно размышлял об этом, и мне представился соблазнительный вариант «завтрашнего» Уэлена. Прежде всего здесь надо, по-моему, исходить из того, что этот поселок всегда был, как мы видели, и остается своеобразным символом чукотско-эскимосской истории и культуры, а кроме того, центром традиционного национального искусства резьбы по кости. И этот статус Уэлена необходимо сохранять, поддерживать, укреплять и развивать в дальнейшем. Поле деятельности тут обширное. Например, в поселке до сих пор нет никакого музея. В промышленном Билибино, история которого насчитывает всего-то два десятка лет, есть созданный энтузиастами народный краеведческий музей, а в древнем Уэлене — нет! Имеется, правда, небольшая экспозиция в школе, была попытка создать уголок этнографии при косторезке, но все это слишком скудно, разрозненно, бессистемно. Такого ли свидетельства своего прошлого и настоящего заслуживает Уэлен! И этот музей, если создавать, то надо создавать, не откладывая, пока сохранились еще у жителей поселка удивительные старинные вещи, традиционная одежда, утварь, пока не вытеснено все это окончательно привозными магазинными товарами…
Главная же надежда Уэлена, как мне кажется, — косторезная мастерская. Ибо, скажем, оленеводство, которое доставляет здесь столько хлопот, с успехом развивается и в других районах Чукотки, а уэленская косторезка — уникальна. Сейчас в мастерской работают около сорока местных резчиков, граверов, швей, но ведь можно привлечь и гораздо больше, потому что это искусство у эскимосов и береговых чукчей — в крови, они все прирожденные художники. Можно отыскать талантливых косторезов и в других «неперспективных» поселках и собрать их в Уэлене. Наконец, мастерская существует уже почти пятьдесят лет, но и по сей день при ней не создано специальной школы, где с детских лет могли бы обучаться будущие мастера. Пока чукотская молодежь приобщается к искусству резьбы по кости так: кончают среднюю школу, приходят работать в косторезку, начинают учениками. Серьезно осваивать косторезное дело можно и нужно гораздо раньше, а дети знакомятся с ним пока на уровне школьного кружка. Если по-настоящему заботиться о сохранении и развитии этого редкого национального художественного промысла, то такая профессиональная школа, по-моему, просто необходима, и открывать ее надо на месте, в Уэлене… Разумеется, я вовсе не мечтаю, чтоб Уэлен превратился в некую «башню из моржовой кости», в поселок, где все кругом только и занимались бы, что резали и гравировали моржовые клыки. Да это и невозможно. Подобно всякому искусству, чукотско-эскимосская резьба по кости не может быть оторвана от жизни, как в современных, так и в традиционных ее проявлениях. Однако беспокоит то, что «современных проявлений», как посмотришь, в Уэлене, равно и в других чукотских поселках, полно, а традиционные, корневые — куда-то, и причем довольно быстро, исчезают. Что определяло первым делом жизнь обитателей этого берега — с незапамятных времен и до самого недавнего прошлого? Охота на морского зверя: кита, моржа, лахтака, нерпу. И не надо, думаю, объяснять, что охота здесь никогда не была просто убийством, ради того, чтобы прокормиться и выжить, — она формировала мировоззрение, мораль, обычаи, питала мифологию, фольклор и, наконец, оборачивалась высоким искусством в национальном танце и резьбе по кости. Все прославленные мастера, танцоры и косторезы, которых мне посчастливилось знать: Нутетегин, Умка, Вуквутагин, Хухутан и, многие другие, — были и превосходными охотниками.
Читать дальше