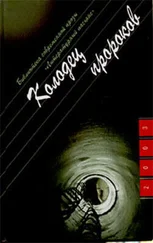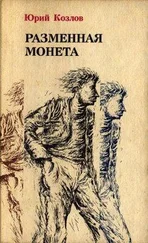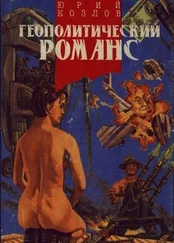…Он лежал на кровати, устремив отрешенный взгляд в потолок. Рядом сидела медсестра. В кухне кипятились железные коробки со шприцами. Я смотрел на него, пытаясь пробудить в душе сострадание и родственность, но устремленный в потолок взгляд, ледяное спокойствие на лице свидетельствовали, что в сравнении с теми далями, с какими, судя по всему, соприкоснулся он, мое сострадание для него ничто. Я подумал: отчасти он сам виноват, что, находясь здесь, я не испытываю всего того, что положено испытывать.
— Что с ним? — спросил я у сестры.
— Не волнуйтесь, — заученно ответила она. — Сейчас придет машина. Ему надо полежать в больнице.
— Привет, Петя, — увидел меня дед. — Анна не вернулась?
— Она пошла на станцию встречать машину, — объяснила сестра, — сюда трудно проехать, не зная дороги.
— Странно, — сказал дед, — я думал, с сердцем-то у меня все в порядке.
— Приступ — обычное дело, — сказал я, — у меня приятелю тридцать, его тоже увезли в больницу с приступом.
— Да-да, — равнодушно ответил дед. Он всегда скучал, когда речь заходила о медицине и о здоровье.
Некоторое время мы молчали. Взгляд деда упал на фарфоровую птицу, стоявшую на шкафу.
— Когда ты был маленький, — усмехнулся он, — ты любил играть с этой птицей. Почему-то воображал, что это орел.
«Ну и что? — подумал я. — Неужели нам больше не о чем говорить?»
— Что ты такой надутый, Петя? — спросил дед. — Обиделся на меня?
Мне стало стыдно. Действительно, о чем я? Дед, как никто, умел ставить меня на место. Вот только виделись мы с ним редко.
— Тебе не так уж мало лет, — продолжил дед. — Во всяком случае, ты вышел из возраста, когда предъявляют претензии. Тебе самому пора… — не закончил.
— Я понял, — сказал я. — Я все понял. Извини.
— Я ни в чем перед тобой не виноват. Разве только не ладил с твоим отцом. Тебе, вероятно, пришлось из-за этого немного попереживать, но в общем-то это чепуха, обычное житейское дело.
— Зачем ты об этом? Какое это имеет значение?
— Достань-ка из-под кровати портфель, — вздохнул дед.
— Какой еще портфель?
— Достань.
Я вытащил старый запыленный портфель с двумя потускневшими никелированными замками. Кожа портфеля была как бы разделена на квадратики и ромбики. Сейчас с такими портфелями дохаживают в баню последние пенсионеры.
— Вы остаетесь одни, — сказал дед. — Ты уж не забывай ее.
Я щелкнул замками и не поверил своим глазам. Портфель был полон денег. «Возможно ли это? — испугался я. — Откуда столько?»
— Вся моя, а теперь, стало быть, ваша наличность, — словно прочитал мои мысли дед. — Но ты ошибаешься. Мне всегда было плевать на деньги. Просто должен же я был все эти годы хоть что-то делать. Так что, — кивнул на портфель, — если за четверть века, то не так уж здесь и много.
— Подожди, — пробормотал я. — Приступ, конечно, чепуха, но даже если допустить невозможное. То что? Вот этот портфель — и все? А где же… жизнь, твоя жизнь?
— Думай лучше о своей жизни, — неприязненно посмотрел на меня дед. — А портфель, поверь, лучше, чем просто светлая память.
— Ты больше ничего мне не скажешь? — прошептал я. — Что же мне о тебе думать?
— У тебя будет о чем думать в жизни, — поморщился дед.
Через десять минут его увезли. Мать уехала с ним. Я остался на даче, чтобы навести порядок, запереть ее.
…Когда я вечером шагал по лесу в сторону станции, глядя на россыпь огней впереди, то заметил спешащую навстречу тень. Что-то очень воинственное было в ней, и я на всякий случай отступил за дерево. Тень, не заметив меня, пронеслась мимо. Я узнал Бориса. В руке он сжимал короткую толстую палку. Этой палкой он намеревался отбить у меня охоту отбивать чужих жен, а может, убить меня, я не знал, какие у него намерения.
Из первого же московского автомата я позвонил Антонине, но Нина Михайловна злобно сказала, что ее нет дома. Нина Михайловна, видимо, испытала разочарование, что я после предполагаемой встречи с Борисом не утратил способности набирать телефонные номера, произносить слова.
Я знал, где искать Антонину. Когда-то давно она сказала мне, что иногда, когда особенно гнусно, она уходит на Ленинские горы, гуляет там до рассвета.
И я подался на Ленинские горы. Поспал на жесткой лавчонке, а как рассвело, спустился к Москве-реке, побрел по набережной, покусывая веточку.
О Москва-река, как спокойна ты на рассвете в безветрии, когда тополиный пух спит и метро еще не грохочет в стеклянном туннеле. На конечных станциях качаются речные трамваи. Светлые, уставленные в небо, столбы возвещают о скором появлении батюшки-солнца. Как ты спокойна, Москва-река. Только одинокий ранний рыбак свистит удочкой в упругом холодном воздухе. Только бледная женщина стучит по набережной каблуками. И какая-то птица летит неведомо куда. Что же искал я, вглядываясь в твои мутные воды, что хотел постигнуть? Одно меня мучило. Всю жизнь я искал смысл происходящего, но то, оказывается, была невинная забава. Сама жизнь сейчас вдруг изогнулась мерзким вопросительным знаком между своей конечной и исходной своей точками. Как дед мог сказать, чтобы я не думал о нем? Не ответить, зачем жил? Пусть горьким оказался бы ответ, но как можно отмахнуться от него, как от назойливой мухи? Так ли заканчивается жизнь? Как Антонина будет рожать ребенка? Кто отец? Так ли начинаться новой жизни? И пусть я крепко стоял на ногах, пусть меня уже было не сбить, от этих вопросов не уйти. И отвечать на них предстояло не чем-нибудь, а собственной жизнью.
Читать дальше