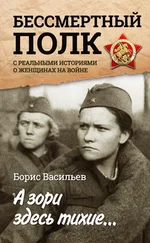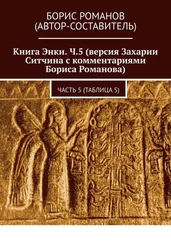Алевтина Ивановна улыбнулась и смахнула слезу, вспомнив дружное девичье отчаяние, когда им вместо чулок выдали трикотажные офицерские кальсоны. Все было забыто перед этой чудовищной несправедливостью, перед этим официальным отрицанием их женского естества. Ревели и бунтовали, и хотели даже делегацию к самому высокому начальству посылать, да Леночка Агафонова выручила. Живая девчонка была, выдумщица и хохотушка; убило ее потом. Весной сорок пятого.
Пока они там спорили, возмущались, кричали и плакали, Лена деловито надела кальсоны, походила перед бесценным зеркалом, разглядывая себя со всех сторон, что-то подтянула, подобрала, прикинула и крикнула торжествующе:
— Рейтузики!
Тут же переделала верх, вставила резинку, снизу штрипки пришила, чтобы кальсоны, как чулки, натянуты были, лишнее вдоль всей ноги в аккуратные швы подобрала, и вышло то, что надо. Да еще и со швом, очень модным в те времена.
— Вот, девочки, глядите.— Прошлась, затянутая, как гусар.— Красота! Даже сапоги надевать не хочется. Эх, туфельки бы сейчас! Хоть самые завалящие…
— А цвет?
— А лук на что?
Выварили в луковой кожуре, надели — даже гордые связистки обзавидовались. Им, связисткам, чулочки с пояском выдавали, как положено, только этот пояс с резинками на казенном языке вещевого довольствия назывался очень уж некрасиво и неделикатно: «пояс-держатель». Армия точность любит.
Вот так они тогда колготки изобрели — эту непременную принадлежность каждой сегодняшней девчонки. Так что и радости и открытия тоже были, не только пот, кровь да слезы.
Да, были и радости. Правда, мало, не для всех, зато за других радоваться умели. От всей души. И чужую радость берегли и гордились ею, как своей собственной, а может, и больше.
— Девочки, влюбилась я, кажется…— сказала самая младшая и тихая Лидочка Паньшина, когда спать вповалку укладывались.
Сразу трескотня утихла. Кто лежал — из-под одеял вынырнул, кто раздевался — раздеваться перестал: все на Лиду смотрели.
— Кажется? Или влюбилась? — строго спросила младший сержант Самойленко.
— Ой, не знаю. Ничего не знаю, девочки.
Лидочка сидела на нарах в бязевой солдатской рубахе, глядела в пространство, как в завтрашний день, и улыбалась.
— Это уж не кажется, а вполне точно,— вздохнула Лена.— Кто он?
— Лейтенант. Мост разминирует, что немцы взорвать не успели.
— Сапер, значит,— сказала Самойленко.— Ясно. Завтра чтоб здесь был. Предъявишь, а там решим. Спать! Спать без разговоров, в пять — подъем, в пять тридцать — свидание с корытами! Все!
Лейтенант был молод: мальчишеская шея по-гусиному торчала из гимнастерки. Вырвался всего на полчаса, смущался, робел и очень старался помочь. Помочь, а не понравиться.
— Годится,— сказала Лена.— Крути роман, подружка!
— Он меня в девять на берегу ждать будет,— замирая от счастья, сказала Лида.
— Никаких романов и никаких берегов,— отрезала Самойленко.— По внешнему виду замечаний не имеем, а внутренний еще надо выяснить. Приведешь на беседу.
— Ой, Тоня…
— Не Тоня, а младший сержант! — одернула Самойленко.— Беседовать буду я, комсорг и…— она подумала,— и Фомушкин, если сочтет нужным.
Лида немного поплакала, но лейтенант явился как штык. И предстал перед техником-лейтенантом Фомушкиным, младшим сержантом Самойленко и комсоргом, которую тогда звали Алей, а ныне — Алевтиной Ивановной.
Лейтенант стоял перед высокими собеседователями с полной серьезностью и готовностью отвечать. Лиду подружки увели на берег, где пугали примерами мужского коварства. Для профилактики.
— Тут такое дело,— начал Фомушкин, листая потрепанную тетрадку, чтобы не было заметно, как дрожат руки.— Тут, понимаешь, армия, у бойца ни мамы нету, ни батьки — только мы, его товарищи.
— Я понимаю,— сказал лейтенант.
— А девушке ошибаться нельзя, она за свою ошибку всю жизнь расплачиваться будет. Вот ты сапер?
— Сапер.
— Нельзя тебе ошибаться?
— Нельзя.
— Вот и ей тоже,— с торжеством отметил Фомушкин.— Значит, вам двоим ошибаться никак нельзя.
— Нет,— улыбнулся лейтенант.— А мы и не ошибаемся.
— Уверен? — Самойленко строго сдвинула брови.
— Уверен,— кивнул лейтенант.
— Тогда доложи, кто ты есть по мирному состоянию, где родители и как думаешь жизнь строить,— строго сказал техник-лейтенант Фомушкин.
Все доложил тогда лейтенант: и что мать — учительница в Москве, и что отец в ополчении в сорок первом погиб, и адрес домашний (его Фомушкин аккуратно в тетрадку занес), и как думал жизнь строить. А думал он завтра же подать командованию рапорт с просьбой разрешить ему жениться, поскольку согласие от невесты уже имелось.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Борис Васильев А зори здесь тихие… В списках не значился. Рассказы [с комментариями верстальщика] обложка книги](/books/424400/boris-vasilev-a-zori-zdes-tihie-v-spiskah-ne-zn-cover.webp)