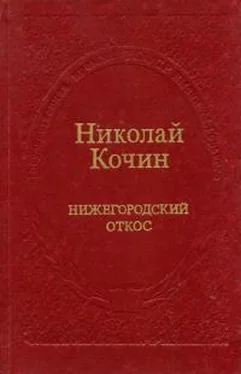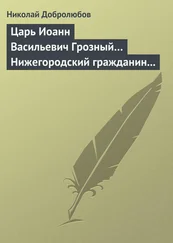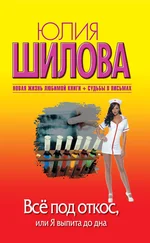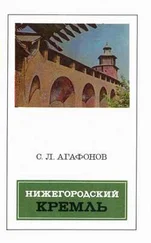— Сейчас, стало быть… того… мы начнем с того, как бы это сказать… со статуи Венеры Милосской… В некотором роде покопаемся вокруг шедевра… Как изволите видеть, будем, по крайней мере, как говорится, заниматься делом, изучать историю античного искусства, в сущности говоря, всерьез и надолго…
Вытерпеть его карабканье в силках косноязычия нельзя было дольше десяти минут. Дольше десяти минут выдерживал один только Пахарев. На лекции Килина ходили только для того, чтобы записать со стенографической точностью его речь и потом вволю посмеяться.
Килин принадлежал к тому типу людей, которые пытались укрыться от всех вопросов жизни под крышей своего специального дела, считали за ограниченных всех тех, кто не хотел разделять их увлечений, и не подозревали, что сами по отношению к другим являлись такими же фанатиками узости. Килин был к тому времени уже в годах, носил с собой огромную сумку с чудесными альбомами репродукций мировой живописи и скульптуры и редкими книгами. В этой же сумке помещался картофель с базара, лук, огурцы, и когда он, запыхавшись, приходил на лекцию в своей растерзанной лисьей шубе и рукавицах, тут же начинал вытаскивать из сумки альбомы и пособия, роняя картофель. Тут они с Сенькой ползали по полу аудитории и подбирали картофелины. Одержимый страстью к искусству, незадачливый преподаватель все предпринимал для того, чтобы расшевелить студентов: объяснял красоту греческих статуй, развалины храмов и пирамид, шедевры живописи, редкие рисунки великих мастеров — ничего не помогало. Верным истории искусств остался только Пахарев, да дежурили двое по обязанности. А старик из кожи лез, чтобы заинтересовать молодежь. Он вдруг перескакивал от древности к современности и начинал поносить футуристов, входивших тогда в моду, сюрреалистов, кубистов, превозносил Репина, Иванова, Серова — и все зря. Аудитория оставалась неизменной: Сенька и дежурные. Газеты приносили вести о боях Первой конной с Врангелем, о штурме Перекопа; люди были озабочены поисками крова и пищи, ликвидацией внутренних врагов революции, а он говорил о «красоте, которая спасет мир», о Джоконде, Парфеноне, Венере Милосской. Он зазывал студентов домой, показывал им свои картины, читал письма от друзей, известных живописцев, цитировал эстетиков и был рад, когда его слушали. А слушал опять-таки один Сенька, редко еще кто-нибудь (Сенька всех слушал, полагая, что он должен наверстать упущенное в жизни). Промерзлая квартира художника была сплошь завалена картинами и разным бутафорским хламом, так что негде было повернуться.
Сенька решил, что у этого доброго и мягкого чудака он получит зачет наверняка, и особенно не готовился. Экзамены Килин принимал на дому, где под рукой были эстампы, альбомы, репродукции. Он показывал студенту изображение статуи или сооружения и требовал их характеристики. Так он и Пахарева пригласил к столу и дал ему в руки портрет Нефертити. Пахарев выпалил:
— Это, возможно, судя по головному убору, русская боярышня…
Старика всего передернуло. Он заметался в волнении по комнате.
— Странная вещь, так сказать. Люди жалуются на плохую память, видите ли, на больное брюхо, на одышку. Никто не сомневается в своих умственных способностях. Точно, видите ли, это — всеобщее достояние. Вот и вы, изволите ли заметить, точно умственный миллионер. Путаете египетских цариц с русскими девками из-под Арзамаса…
Пахарева прошибла испарина. Он никак не ожидал такой строгости от этого мягкого человека. Так старик оскорбился за свою дисциплину. Потом он начал что-то бормотать о неполноценности тех, кто от сохи и бороны сразу пришел овладевать сокровищами мирового духа. Затем старик извинился за то, что сказал. Он поднес Пахареву Нику Самофракийскую.
— Это кто? Ну, батенька, теперь подумайте.
— Это, Василий Андреич, я думаю, какой-нибудь ангел с древней иконы, — произнес Сенька, от волнения глотая воздух.
— Какой же это может быть ангел в четвертом веке до нашей эры, батенька мой? Э, да вы истории в некотором роде не знаете. Нет, нет, так нельзя… Это профанация науки… Вот к чему повела охлократия… Как хотите, а уж подчитайте и, так сказать, придете недельки через две.
Пахарев был страшно обескуражен этой неудачей. Он первый раз столкнулся с характером, в котором твердость и настойчивость сочетались с мягкостью и деликатностью. Значит, грубость — необязательно сила. Сенька достал книги Байе, Грабаря, Гнедича и другие знаменитые труды и проконспектировал все главы, относящиеся к скульптуре.
Читать дальше