После этого во флигеле Фени гости стали собираться еще чаще. Даже без нее приходили какие-то мужчины и женщины, по-хозяйски отпирали замок, подкапывали молодую картошку, и опять на улице был слышен патефон. Он рассказывал и про синенький платочек, и про темную ночь, и про многое другое. Иногда гости пели песни-самоделки и частушки, ныне полузабытые частушки тех лет, в которых все так обнажено и не прикрыто.
Особенно запомнилось мне, как однажды женский голос выводил с каким-то отчаянием:
Если хочешь познакомиться —
Приди на бугорок,
Приноси буханку хлеба
И баланды котелок.
Стали захаживать к Фене по одной и разные женщины. Они приходили к ней обычно утром и уходили поздно вечером. Уходили тяжело, побледневшие и осунувшиеся, как после тяжелой работы или болезни.
Ребята постарше об этом болтали такое, от чего становилось не по себе и не хотелось смотреть никому в глаза, даже матери. А женщины с нашей улицы укоризненно качали головами и говорили о каком-то указе, о строгости военного времени.
— Ну Фенька! Ну баба! Весело, с деньгами живет. А допрыгается? На всю катушку дадут…
Эти разговоры и пересуды словно не касались Фени. Редко появляясь на улице, она проходила мимо соседей с независимым видом, высоко подняв голову и спокойно здороваясь. Она всегда была аккуратно одета, часто в какой-нибудь обновке, неизменно красивая, совсем молодая.
Вот и сейчас она что-то рассказывала капитану и звонко хохотала, совсем по-девчоночьи запрокинув голову. Если бы мы не знали ее Вадьку, никогда бы не поверили, что она мать такого большого парня.
Мы просидели на бревнах уже часа два, но никто из гостей не уходил, голоса во флигеле становились все громче и пьянее. Мы б, наверное, разошлись по домам, если бы не почтальонка. Это была девчонка из эвакуированных. Худая, голенастая, в коротком выцветшем платьице, она каждый день из конца в конец проходила нашу улицу.
Она шла по другой стороне. Направилась было к нам, но остановилась посреди дороги. Прислушалась к голосам во флигеле, переступила с ноги на ногу, достала из сумки прямоугольный конверт, как-то странно глянула на нас, потом махнула рукой и заторов пилась дальше.
Мы уже совсем позабыли про нее, когда она опять появилась перед нами. Раньше она никогда не возвращалась обратно, а уходила в другую улицу. Она стояла у самой калитки и смотрела на окна флигеля. Лицо у нее было какое-то нехорошее, жалкое, и походила она скорей на нищенку с сумой, чем на почтальона. Мы иногда беззлобно, по-ребячьи подшучивали над ней, но тут растерялись и ничего не посмели сказать.
Девчонка опять распахнула свою сумку, глянула на конверт и, тряхнув головой, отчаянно шагнула в калитку. Во флигель она не вошла, а лишь постучала в оконный наличник и что-то сказала выглянувшему мужчине. На рыльце появилась Феня.
Мы не слышали, о чем они говорили. Мы только видели, как быстро, почти бегом, пошла по тропке почтальонка. Уже за калиткой она захватила лицо ладонями, у нее мелко затряслись острые плечи. Громко всхлипывая, девчонка бросилась вниз по улице.
Феня стояла, всем телом привалившись к косяку. У ее ног белел конверт и листок бумаги. Вскинув руки, вся подавшись вперед, она перевалилась через порог и исчезла в раскрытой двери, словно упала в яму.
Взвизгнув, замолк патефон. В комнате что-то загремело, послышался звон разбитой посуды. И, перекрывая разноголосый говор, испуганные вскрики, раздался Фенин стон:
— Уходи-и-ите! Уходите все…
Голос ее сорвался, будто она захлебнулась чем-то. Потом он снова заметался по комнате, прерывистый, заикающийся, словно под ногами у Фени был не пол, а тряский кузов грузовика.
— Ос-с-тавь-т-те м-ме-ня! Вид-деть не х-хо-чу!
Шатаясь, она выскочила на крыльцо и упала, прикрыв собой белый прямоугольный конверт.
— Сыночек мой! Кровиночка моя!
Корона на ее голове рассыпалась, и две косы, как две толстые крученые веревки, разлетелись в разные стороны…
Через несколько дней рано утром я встретил Феню. Она быстро шла по улице, скользнув по мне невидящим взглядом. Вся она поблекла: ни румянца, ни ярких губ, ни черных бровей. Под новенькой, еще необмятой пилоткой было обычное лицо усталой женщины.
Я оглянулся ей вслед и увидел спину в солдатском бушлате, наполовину прикрытую тощеньким вещмешком, и ноги, обутые в тяжелые кирзовые сапоги.
У всех, с рождения живущих в деревне или хотя бы выросших в ней, обычно есть какое-нибудь прозвище. А у иных еще и не по одному. Тут и родовое, старинное, и свое личное, как бы второе имя. Ничего в этом зазорного нет. И совершенно неправильно считают некоторые, что прозвищами в народе награждаются лишь люди недостойные. Смотря какое прозвище…
Читать дальше
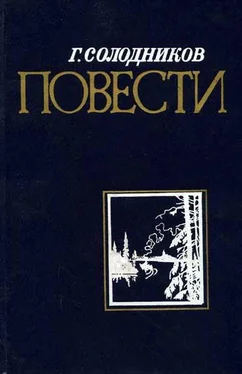

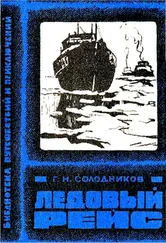




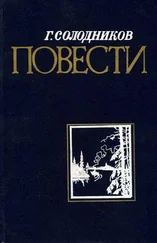

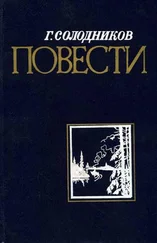

![Геннадий Карпов - Шёл я как-то раз… [Повести и рассказы]](/books/435900/gennadij-karpov-shel-ya-kak-thumb.webp)
