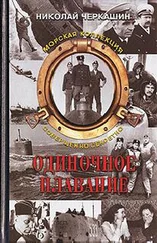Я растерянно смотрел на его покрасневшее лицо. У меня действительно был дядя Георгий, но мы ничего не знали о нем, ничего, даже номера воинской части. Прошло уже полтора месяца, как освободили город, но писем от него не было. В комоде в ящике, где хранилось извещение «... пал смертью храбрых» и письма отца, лежали и его старые письма - исписанные карандашом листки блокнота. Бабушка перечитывала письма, далеко отставив их и шевеля губами. Письма она читала долго, а сложив их, уходила во двор работать, и вокруг её рта собирались морщины, похожие на лучи нарисованного карандашом солнца. Бабушка не плакала. Плакала мама. Отец писал химическим карандашом, и от слез письмо становилось рябым, с синими пятнами. Синих пятен появлялось все больше и больше, и мне хотелось письма намочить водой, чтобы не видеть этих пятен, накопившихся за три года войны. И вот передо мной стоял человек, который знал моего дядю, младшего брата моего отца; этот человек хмурился, и я догадывался, отчего он так пристально смотрит на меня, но всё-таки спросил:
- Что с ним?.. Мы дали запрос в военкомат, но нам ещё не ответили. Мы ничего не знаем о нем.
- Георгий был моим другом, - сказал он. - Да... другом.
«Ну конечно, - подумал я, - конечно... был... Был... Это обязательное был».
- Я покажу тебе сейчас альбом, - сказал Сергей Алексеевич, торопливо открывая дверку шкафа. - Вот... здесь... Видишь? Это мы хороним его... Это митинг части... Салют над могилой... Это памятник...
Памятник... Жестяная пирамида со звездой и фотокарточкой. Памятник, который завтра увидит бабушка. На фотографии он улыбается. «Он всегда улыбался», - говорила бабушка. Всегда. Улыбался.
- Дети! Мыть руки и к столу! А вы о чем здесь так серьёзно? - Борькина мама тоже улыбалась. Я опустил голову. Саднило в горле, было не передохнуть.
- Вот Игорь... племянник Георгия он, понимаешь? - глухо сказал Сергей Алексеевич.
- Вон оно что, - протянула она. - Я сразу и не поняла. Твоя бабушка жива? - обратилась она ко мне.
Я кивнул головой.
- Сережа, ты завтра обязательно сходи к ним.
- Обязательно. Я приду. Скажи бабушке, что я обязательно приду. И что она пенсию получит, тоже скажи. Мы похлопочем. А война кончится, мы Георгию памятник сделаем, большой памятник, с бюстом. Знаешь, таких моряков, как он, ещё поискать надо. Ему третий орден Ленина посмертно дали. Это тоже ей скажи.
- Да, - сказал я. - Я обязательно скажу. Я скажу, а вы приходите. Приходите к нам, пожалуйста.
- Иди мой руки, - сказал он. - Не будем уж портить праздника. Зоя, покажи ему, где ванная.
Ребята уже вымылись и возвращались в комнату, только .Вася ждал меня возле ванной.
- Может, мне снять колодки? - тихо спросил он.
- Брось, - сказал я. - У зануды банты, а у тебя колодки.
- Точно, - сказал Вася. - У меня колодки.
- Ну вот, - сказал я и стал мыть руки. В комнате опять завели «Розамунду», трофейную пластинку на немецком языке.
На Вовке была форма номер три - чёрные брюки, чёрная фланелька и бескозырка. А на груди висела медаль «За оборону Ленинграда». Вовка широко раскрывал рот и под аккордеон пел: «На нас девчата смотрят с интересом, мы из Одессы моряки...»
Девчонки хлопали ему безбожно. А медаль он все равно взял у матери. Взял после того, как хулиганка Нонка появилась вечером с медалью «За оборону Севастополя».
Вовка приехал к нам из Ленинграда, и поэтому он говорил: «Кто куда, а я в сберкассу». У нас таких плакатов не было.
У Нонки медаль была настоящая, не то что у Вовки. Но Вовке надо было пофорсить, и он взял её у матери. А Нонка не форсила. Она её получила за дело, но носила только по праздникам. В другое время носить медаль ей не позволяла мать. Она запирала медаль в комод. Кто поймёт этих взрослых? Нонка отлично дралась и в нужный момент всегда умела стукнуть коленкой. Было просто удивительно, что она носила платье.
Честно говоря, мне тоже было обидно, что ей дали медаль, а мне нет. Но, наверное, мне её давать и не стоило.
… Раненых было очень много. Они сидели на земле на площади Щорса возле школы, где был госпиталь. По их тёмным замученным лицам текли капли пота, и все они были небриты. Я никогда не видел так много небритых мужчин.
Некоторые из них стонали, некоторые нет, но пить хотели все. Тех, кто был ранен в руку, мы поили сами. Но они все равно поддерживали котелок грязной рукой, и если рука дрожала, то котелок стучал по зубам.
Котелки быстро пустели, и мы шли за водой на колонку, где сидела тётя Паша и открывала кран, только когда мы подставляли котелок, и закрывала, когда котелок наполнялся. А когда мы возвращались на площадь Щорса, то со всех сторон кричали: «Сынок, воды!»
Читать дальше