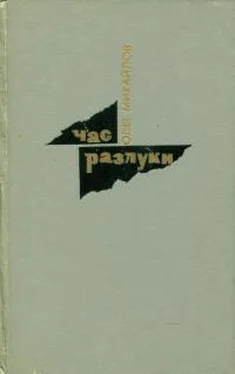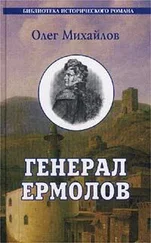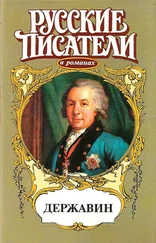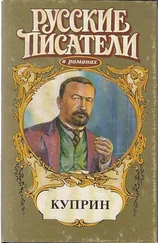В самом деле, никто не мог знать — ни капитан Мызников, ни новый начальник училища, ни стоявшие у стены и почтительно внимавшие ему офицеры, — никто, кроме самого Егорова, того, что сажал он ошибку за ошибкой от одной близости огромного генерала, наделенного, как ему казалось, нечеловеческой властью…
— Как нравились ему твои сочинения на свободные темы, — прервал молчание Мызников, глядя в черный иллюминатор, за которым стыла ледяная мартовская вода Москвы-реки. — А ведь я его знал на фронте…
— Воевали вместе? — тихо сказал Алексей.
— Нет, встретил один раз. Но запомнили друг друга на всю жизнь. Выходил я с одним лейтенантом из окружения. Осенью сорок первого. И наткнулись в лесу на полковника. Обе ноги перебиты. Полз, пока силы были. Не ел двое суток, патроны кончились. А до фронта ох как далеко! «Пристрелите, ребята», — говорит. Мой лейтенант что-то замялся. А я на полковника как закричу: «Да как вам не стыдно!..» Тяжелый был. Тащили попеременки, пока не валились от усталости… Вытащили!
Внизу, у гардероба, где хлюпала невидимая вода, Мызников растроганно сказал:
— Читаю тебя, Алексей. Горжусь тобой, сынок…
— Полноте, — чистосердечно ответил Алексей. — Ведь ерунду пишу. Вот погодите, выйдет мой «Суворов». Я его посвящу вам — и лично вам, и офицерам-воспитателям, и воспитанникам Курского суворовского училища.
Мызников достал маленький тяжелый значок с профилем старичка, что стоял в комнате у Алексея:
— Это тебе за «Суворова». И еще — мое отцовское спасибо!
13
Тимохин навестил Алексея, как всегда, внезапно, в тот неизбежный час, когда он готовил, понуждал себя к работе.
Еще с порога, проходя в комнату, быстро заговорил:
— Вот типичнейший Егоров: на столе, в вазе флоксы, а сам слушает Вагнера… Кажется, колыбельная Зигфрида?
Алексей, стыдливо натянув пониже на бедра ночную рубаху, ретировался за халатом и из ванной услышал:
— Ба! Вот главная новость: «Суворов»!
Да, под телевизором, в нишах стенки, на подоконнике, — повсюду лежали одинаковые нарядные, красно-бело-синие увесистые книги с портретом того самого худого старичка, который глядел невозмутимо и чуть насмешливо из угла комнаты.
В это утро Алексей, еще окончательно не проснувшись, ощутил обжигающее нетерпение — как суворовец на каникулах, — что же такое случилось? Что-то прекрасное! Ну конечно, конечно, вышел его «Суворов»! Дома полторы сотни книг!
Тимохин листал «Суворова», одобрительно хмыкая, и, словно про себя, говорил:
— Как ты пишешь и когда? У тебя удивительная способность падать и подниматься, падать и подниматься снова…
Далеким и даже ближним знакомым Алексея могло показаться, что он — баловень судьбы, легко и непринужденно марающий бумагу: из-под пера так и вылетали статьи, рецензии, очерки, книжки.
Все было по-другому.
Работа не отступала от него никогда. Порою среди ночи он просыпался от тревожного чувства и, чертыхаясь, зажигал на тумбочке лампу, надевал очки и бежал босой к ручке с бумагой. Мозг и в час отдыха готовил строчку. В толпе, в метро, на пляже его настигало пришедшее сравнение, и Алексей искал карандаш, просил у соседей, записывал на чем попало, случалось, на ресторанной салфетке, а потом долго, порою безуспешно пытался расшифровать — да что же такое означают первые слоги непонятных слов? Какая мудрость за ними?
Начало «Суворова» не давалось ему долго. Рукопись окончена, а первой главы нет. Выходило плоско, как ни высиживал: юный Суворов и арап Петра Великого. Но сколько раз книги о генералиссимусе открывались именно так! А уж разматывать клубок чужой жизни монотонными оборотами: «Такого-то числа, там-то, в такой-то семье родился…» — и вовсе стыдно.
Алексей нашел начало, вернее, оно нашло его, неожиданно. Измучившись бессонницей, выпил еще одну таблетку и, когда мозг размягченно погружался в парное молоко сна, вдруг понял: начинать надо с коронации дочери Петра Елизаветы, когда все — и отец Суворова, строгий прокурор, и его будущий тесть, чванный князь Прозоровский, и сам он, тринадцатилетний, оказались в одном месте, у зимнего дворца Аннингоф. Где-то глубоко, за глазными яблоками, на внутренней стороне черепа, словно на кинополотне, с головной болью проступило название древней книжицы, «Торжественное вшествие Ея величества Елизаветы Петровны в Москву 1742 году» — из отдела редких книг Исторической библиотеки. И Алексей мучительным усилием разорвал густеющий туман и успел накарябать на листочке: «Елизавета… из Кремля… на Яузу…»
Читать дальше