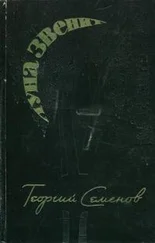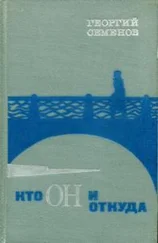Мы проходили торопливым шагом мимо, спеша до рассвета прийти на место. А обратно шли разморенные от бессонной ночи и усталые, таща в рюкзаках тяжелую плотву, от влажной массы которой намокала и пахла рыбой рубашка. И нам не хотелось даже останавливаться в Салькове, не хотелось зайти к старым своим хозяевам, выпить криночку молока или просто напиться воды. Мы шли мимо, как чужие люди, и не хотели никого узнавать, потому что нам надо было донести до дома свежую рыбу, которая могла испортиться.
Может быть, мы боялись, что жители деревни не узнают нас? Но, спрашивается: почему это мы должны были бояться?
Что-то тут было другое. А что, не знаю.
Да, конечно, рыба. Жили мы впроголодь, и жареная рыба, которую мы ели несколько дней после удачной рыбалки, была серьезным подспорьем в нашем бедном хозяйстве.
Но я-то думаю, что, пробегая мимо Салькова, мы с отцом боялись нарушить ту загадочную прелесть воспоминаний о жизни в этой деревне, о той жизни, которая стала для нас хрупким и легкоранимым, перламутровым каким-то прошлым. А в прошлое, как известно, нельзя вернуться просто так, из праздного любопытства.
Прошлое свое каждый человек, имеющий чуткое сердце, хранит в душе и не растрачивает понапрасну, дожидаясь той счастливой минуты, когда оно, это прошлое, само поманит к себе и напомнит, кто ты и откуда родом, где набрал ты силу для жизни и хватит ли тебе этой силы на будущее.
Поэтому, наверное, и пробегали мы мимо Салькова, забываясь в рыбацкой страсти на реке, которая и после войны все так же текла по хрящеватому донышку, так же дарила нас рыбой и которая, увы, не знала ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Просто — текла, как текут облака в небе.
Человек, конечно, может испортить реку, умертвить в ней всю рыбу, загрязнить воду… Но все равно о ней нельзя будет сказать, как о человеческой жизни, что в прошлом она была лучше или хуже, чем в настоящем. Нельзя же о мертвом сказать, например, что в прошлом он был гораздо симпатичнее! Так и об убитой реке.
В жизни у меня теперь давным-давно есть другие реки, другие разливы и пойменные луга, на которых я провожу до обидного мало времени, надеясь и веря, что они никогда не будут убиты человеком.
Лишь однажды, когда отец разбирал и разгружал ящик шкафа, где хранились его рыбацкие снасти, он вынул из угла моток потускневших серых волос и бросил их на пол, а я поднял этот моток и, узнав волосы из хвоста Соловья, принюхался к ним и уловил опять чуть слышный, забитый запахом деревянного ящика невнятный их аромат. К тому времени в продаже появилась синтетическая леска и нужда в конском волосе отпала. Я взял в руки один волосок, потянул его, и он легко разорвался. Взял другой — то же самое. Третий, четвертый… Все они перегнили от времени, высохли и помертвели. А я все рвал и рвал их, стараясь окунуться в свое прошлое и вспомнить все, что было раньше…
Но ничего из этого не получилось, будто прошлое не хотело пускать меня в свои просторы и тесные лабиринты — в свою запутанную простоту.
И вот только теперь нежданно-негаданно все во мне всколыхнулось вдруг, и я, забыв про сон, будоражу себя воспоминаниями, чуя в весеннем воздухе запах ласковой Соловы, рыженькой кобылы объездчика Ещева.
И люблю этого Ещева, который разбудил во мне ненароком мальчишку, и так я ему благодарен за бессонницу, что не могу согнать улыбки с лица!
Улыбаюсь как дурачок, слушая токующих чибисов, и даже в сдвоенном писке вьющихся над кочкарником куликов слышится мне что-то от лошади, будто чибисы все время приговаривают мне в ночи: «Си-и-вый! Си-и-вый!» И так всю ночь напролет. Короткую апрельскую ночь, которая стала светлеть и кончаться за окном. Или это глаза мои привыкли к мутному свету?
Думаю со сладкой дрожью в теле, что надо бы перед зарей минуток пятнадцать-двадцать поспать. Всего каких-нибудь двадцать минуток! Этого, говорят, иногда бывает достаточно, чтобы почувствовать себя снова бодрым. А дольше мне спать нельзя. Пора идти на охоту. Не спать же я сюда приехал? Хотя бы минуток пятнадцать крепкого-крепкого сна!
Уговариваю себя, что это обязательно надо сделать. Во что бы то ни стало! И наконец-то уговорил. Уснул…
А проснулся в одиннадцать утра.
Но вот что странно! Совсем не жалко пропущенной зари, а словно бы даже приятно, что не пошел на охоту.
Скворец сидит на березе возле своего домика, срывается, словно ныряет в парной воздух, улетает стремглав, возвращается, заглядывает в круглую дырочку и опять усаживается на ветке. Поет и свищет в солнечном луче на голубой березе, которая обняла шоколадными своими веточками небесную синеву, наливаясь сладким и прохладным соком.
Читать дальше



![Георгий Семёнов - Путешествие души [Журнальный вариант]](/books/73286/georgij-semenov-puteshestvie-dushi-zhurnalnyj-varia-thumb.webp)