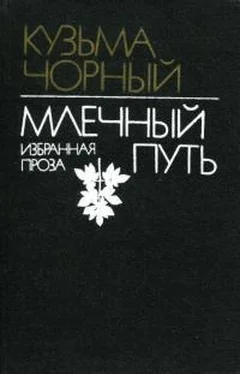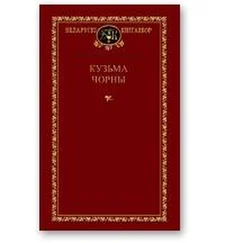Они миновали старую рябину и вошли в лес. Крамаревич был уверен, что идут они туда, куда он и хотел. Без горечи и сожаления он думал о пустой хате, где такая жуткая тяжесть лежала на душе. Не было б горшей муки, чем остаться там одному.
Это были последний вечер и день его печального одиночества. Ночь впустила их под свой полог. Звезды поздней осени мерцали над черной тишиной елового леса. Подмораживало. Под сапогами шуршали жесткие листья, хвоя и первая изморозь. Антон Крамаревич невольно отмечал это, как и то, что всю свою жизнь он любил эту пору года и суток.
Пока заживала его рана и пока он сам поправлялся в той деревушке у доброго человека, все-все вокруг казалось ему не настоящим. Важным и реальным было только то, что он ничего не знал о детях и жене и тосковал по ним. Пока он сидел эти последние дни в горьком одиночестве старой хаты, опять же все окружающее — и солнце, и дождь, и сам осенний день, и последние листочки на дереве, — все, что он сызмальства любил, было тоже ненастоящим: на всем лежала искажающая печать его тоски. Самым важным и единственно реальным было то, что все они — и дети, и жена, их мать и его верная спутница, — исчезли из жизни, что их уже нет на свете! А тот, кто лишил их жизни, вырвал душу, сам жив-живехонек и вкушает земные радости. Первые приступы ненависти уже тогда начали прорываться в нем, но их глушили ровная печаль и вечно угнетенное состояние души. Мир был заслонен от него. Где уж тут радоваться дереву за окном или ясному небу поутру.
Человеку не много нужно для утешения и счастья. И для того, что живет у человека в душе, не существует извечной меры: это большое, а это — малое. Он еще не видел людей, к которым вел его Коля, а это чувство — что все окружающее нереально — уже покинуло его. Оковы спали с души. Надолго ли? Кто знает. Но сейчас, как и всегда, стояла осенняя ночь и, как всегда прежде, можно и должно было упиваться ею.
Они подходили к лесному лагерю задолго до рассвета. Крамаревич заметил, что Коля держится тут и ведет себя по-хозяйски. Он вошел в роль.
— Сейчас увидим человека, во-он там будет стоять, — сказал он таинственно.
И правда, вскоре они заметили в темноте человеческую фигуру.
— Это я, Коля Сущевич, — негромко произнес Коля, и Крамаревич еще увереннее пошел за ним. Коля велел пригнуть голову — он сделал это и не пожалел: еловые колючки скользнули по лбу и ушам. Потом Коля сказал, что надо закурить и укладываться спать. Он уже распоряжался. Крамаревич сел на груду веток. И тут Коля словно спохватился:
— Эх, как же это я! Нам не сюда надо было. Пошли-ка!
— Куда это? — воспротивился Крамаревич. Он решил, что хватит во всем подчиняться этому мальчишке. Особенно теперь, когда он, можно сказать, излечился, вышел из угнетенного состояния. — Куда нам идти? — повторил он. — Утром пойдем, а пока подремать надо. Это шалаш какой-то?
Его твердый и авторитетный тон возымел действие.
— Шалаш на одного, это я себе сделал, — отозвался Коля уже без прежних властных ноток в голосе — так мальчишка хвастает перед взрослым. — Но если потесниться — можно и вдвоем.
Им действительно пришлось вытянуться, чтобы обоим поспать до утра. Они тесно прижались друг к другу спинами и глубоко заснули. Но Крамаревич спал недолго: Коля начал разговаривать во сне и метаться. Он то говорил с отцом, то у кого-то спрашивал об отце, то вдруг вспомнил про мать — как на виселице ветер трепал ее волосы. Несколько раз вскакивал и ложился снова, жался к спине соседа. Крамаревич воочию увидел и ощутил, как глубоко ранена душа мальчика — тот был на грани тяжелого душевного потрясения. И тут же он, Крамаревич, содрогнулся от мысли, что ему нужно искать своих детей, что, может быть, кто-то из них только ранен и где-то вот так же страдает и мается, как Коля. Скорее всего, это была лишь болезненная игра воображения, он и сам не верил в такую возможность. Но от сознания этого было не легче, и он с радостью заметил, что начало светать.
Под утро Коля успокоился, перестал метаться, зато дрожал от холода. Шалашик был мал, в нем нельзя было даже встать во весь рост. Сложенный из еловых лапок, он только скрывал того, кто в нем находился, от стороннего глаза. Холод проникал в него без помех. «Как мучится этот хлопчик, и я мучаюсь, и дети мои мучились. Эх, жизнь, будь ты неладна!..» Опять жгучая ненависть сдавила Крамаревичу грудь. Он выполз из шалаша и ждал, пока проснется Коля…
И снова день был ясный, и к полудню солнце слизало с травы иней. Коля повеселел, как только кончилась ночь: днем тебя никто-никто не заставляет спать и, значит, прочь ночные кошмары. Ближе к вечеру он разыскал Крамаревича и сказал, что уходит в разведку и когда вернется — неизвестно. Крамаревич видел: этот мальчишка стал ему родным и близким. Стал опорой его души.
Читать дальше