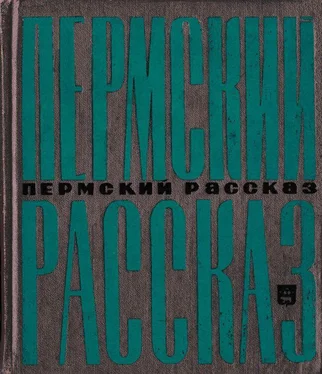Только белое и черное — и гвалт.
Дверь хижины приоткрылась только на одно мгновение и лишь коротко блеснула светом, а потом захлопнулась. Но как из нее пахнуло на нас теплом, уютом и ночлегом! И как сразу почувствовалось, что мы голодны!
Лапшин приглушает мотор. Становится тихо. Но ничего не слышно, даже собачьего лая. В ушах по-прежнему звон. И ноги на твердой земле не ощущают твердости.
И все-таки постепенно все возвращается на свои места: и земля, и звуки земли.
— А я будто знал! — кричит бородатый начальник. — Чайник поспел! Жарево готово! В картишки перекинемся!
Он страшно рад. Он не знает, что делать от радости. Так он одичал на своей перевалочной базе. Жирный пес носится вокруг, тоже выражая свою безграничную радость. Трактор поутих, он ворчит на холостом ходу, но шума не меньше.
К хижине мы пока не идем. Мы еще стоим в наших санях.
Калинкин отрывисто спрашивает:
— Чай на столе?
Начальник радостно подтверждает:
— Есть! Есть!
— Штаны есть?
— Есть! Есть! — Спохватывается: — Какие штаны?
— Обыкновенные. Ватные.
— Найдем!
— Ищи.
Калинкин наклоняется над Шелеповым:
— Сейчас мы тебе чаю организуем… Пошли, Валентина.
— Мое место — возле больного, — бормочет Валентинка, вытирая курносый нос мокрой варежкой.
— Я знаю, где твое место, — говорит Калинкин. — Пошли.
В его тоне слышится приказ. Валентинка поднимается.
В хижине теплынь. Полумрак, наполненный запахом рыбы и трубочного капитанского табака. Гудит, пылает железная печурка, сделанная из металлической бочки, в каких перевозят на дальнее расстояние горючее и спирт. Печка стоит в деревянном ящике, наполненном прокаленным песком. Песок утыкан окурками: в таких хижинах пепельниц не водится. Сам же бородатый начальник курит капитанскую трубку. Окурки в песке, словно визитные карточки, оставленные торопливыми шоферами и трактористами. Заскочил на минутку, погрелся, поел, покурил, ткнул окурок в песок — и прощай, до свидания, бородач, нас зовут дороги…
Бородатый начальник это знает. Но он, изнывающий от одиночества, привык радушно встречать каждую машину. Авось и задержатся люди возле его очага, авось перекинутся с ним в картишки. А потом, глядишь, соблазнятся нарами, что сколочены в углу, кинут на темные доски свои замызганные и промасленные тулупы… Ведь бывает же такое!
А печурка пылает и гудит. По стенам мечутся желтые горячие блики. В углах хижины темно. Жиденький свет керосиновой лампешки не в силах проникнуть дальше определенного круга.
На столе в беспорядке — сковородка с жаревом, нарезанный толстыми ломтями хлеб, разбросанные игральные карты… Бородач со стуком ставит на стол большой чайник и разнокалиберные стаканы и чашки.
— Бутылка у тебя найдется порожняя? — спрашивает Калинкин.
— Найдется! — радостно отзывается бородач, звякает в углу посудой, рассматривает бутылку на свет лампы.
— Наливай, — говорит Калинкин Валентинке. — Да осторожней. Не ошпарься!
Она наполняет бутылку коричневым наваром, заворачивает ее в газету и выносит на улицу Шелепову.
Лапшин, будто вспомнив что-то, выходит за нею следом.
Мы, не раздевшись, стоим у стола, берем руками жирные куски жареной рыбы и, обжигаясь, осторожно потягиваем крепкий чай. Он очень вкусный. Как и все вокруг в этой хижине, чай пахнет рыбой.
— Чем бы вас таким угостить? — суетится хозяин и, как редкость, достает литую головку сахара. Вытащив из-под лавки топор, откалывает большие куски.
— Кубинский, — доверительно сообщает он.
Врет бородач. Куба такого не производит.
Жирный пес ползком, на брюхе, тайно пробирается к нам, к людям. От людей, он знает, ему кое-что может перепасть. Ради куска сахара пес готов пойти на унижение. Трактористы избаловали его так, что он потерял свое собачье достоинство.
За дверью слышны невнятные голоса, возня, скрипит снег, снова голоса, приглушенный смех. Наконец дверь распахивается, и вместе с клубами морозного воздуха появляется Валентинка, растрепанная и запыхавшаяся.
— Отнесла, — говорит она.
Подходит к столу и как-то боком, неловко берет стакан, принимается дуть на чай. Губы ее вытянуты трубочкой, совсем по-детски.
— Отнесла, — повторяет она.
Мы молча пьем чай.
Входит Лапшин. Вид у него подозрительно деловитый. С размаху бросает меховые рукавицы на скамейку и берет стакан, манерно отставив мизинец. Лапшин явно рисуется. Лапшин знает себе цену. Он прихлебывает чай и смотрит на Валентинку. Она от волнения вытирает отсыревший нос. В отсвете неяркой лампы лицо Валентинки, все еще розовое с мороза, кажется и впрямь привлекательным. Особенно глаза, влажные от растаявшего снега, блестящие от пламени лампы. Или это по иной причине?
Читать дальше