М. Зуев-Ордынец
Станция Любянь
Поезд мягко, неслышно тронулся. Ярко освещенный вокзал медленно поплыл назад.
Всегда волнует чем-то, даже человека равнодушного и привычного к дальним поездкам, эта минута, когда провожающие вдруг, вытягивая шеи и поднимаясь на цыпочки, идут за двигающимися вагонами, когда во все вагонные окна высунулись взволнованные лица уезжающих, а гул прощальных восклицаний заглушает первый стук колес. Затем ослепительные люстры вокзала начинают мелькать все чаще, вот отскочила назад последняя лампочка и — как отрубило. Поезд ворвался во тьму ночи.
И есть в дальних поездках незримая черта, до которой путешествующий все еще полон думами о том, что осталось позади, живет прошлым, а переехав эту черту, он начинает представлять себе, что ждет его впереди, и, обогнав поезд, попадает в будущее. Никакими расчетами установить эту грань нельзя. Для одних она лежит ближе к точке отправления, для других, наоборот, ближе к конечной точке направления. Это зависит от самого путешественника, от того, где больше сосредоточено для него жизненно важных интересов и сердечных привязанностей…
Дмитрий Афанасьевич Горелов не почувствовал никакого волнения, когда поезд тронулся, и не существовало для него этой незримой черты. Для него равно, и в городе, откуда он сейчас выехал, и в Москве, куда возвращался, была только работа, которую он любил и выполнял с увлечением. Никаких сердечных привязанностей у него не было нигде. Безрадостными были его встречи и беспечальны расставания. Сейчас провожали его только сослуживцы — подчиненные, вежливо прятавшие скуку и нетерпение: скорее бы отчаливало высокое начальство. А в Москве у него только старая глухая тетка да такая же старая угрюмая домработница, а встретит его один шофер и отвезет либо в министерство, либо на квартиру, такую безликую, что Дмитрий Афанасьевич затруднился бы описать ее, если его об этом попросить. Хорошо помнилась только мебель, пузатая, словно опухшая, да ярко-желтые паркетные полы, такие скользкие, что тетка ходила по ним, балансируя растопыренными руками, как по канату. Опухшую мебель откопал в антикварном магазине заместитель по хозчасти и, назвав трудно запоминающийся стиль и очень высокую цену, добавил:
— С этих шкафов и диванов на вас смотрят века! А обставлять вас «Древтрестом» считаю политически неверным. Могут ведь иностранные представители заглянуть.
Но иностранных представителей Дмитрий Афанасьевич принимал в министерстве, а на квартиру заглядывали, и то не часто, лишь сослуживцы: погонять шары на «историческом» опухшем биллиарде. Дмитрий Афанасьевич любил эти посещения, хотя знал своих гостей только по работе. Во время их налетов гулкие высокие комнаты наполнялись голосами, смехом, лихим щелканьем шаров и напоминали почему-то Дмитрию Афанасьевичу холодную, угрюмую, давно не топленную печь, в которой вдруг затрещало, загудело дружное, веселое пламя. В эти вечера выпивали, не мало и не много, а сколько следует, мололи всякий вздор, бывали и нескладные песни, и смешные мужские поцелуи, и шутливые потасовки — все, что полагается в таких случаях. Дмитрий Афанасьевич тоже пил, смеялся, целовался, даже пытался подтягивать песни, но ловил себя на том, что фальшивит не только в мелодии, но и в чувствах. Он грелся у чужого огня, сам не загораясь.
Бесшумный, мягкий ход поезда сменился постукиванием и подрагиванием. Заскрипело сверчком в стенках, засвистело в вентиляторах, ритмично начали позвякивать оконные стекла. Дмитрий Афанасьевич сидел в коридоре на откидном стульчике и смотрел в окно. Там была темная августовская ночь, и на ней, как на черной стене, висели желтые, зеленые и белые путейские огни. Он отвернулся и оглядел коридор.
В дальнем его конце, тоже на откидном стуле, сидела женщина и разговаривала с молодым офицером. Горелов видел только ее спину в темно-сиреневом жакете и затылок с тяжелым пучком светло-русых волос. На коленях ее лежал, свешиваясь, букет пушистых, как цыплята, мимоз, и еще один букет держал под мышкой, как банный веник, разговаривавший с ней офицер. Дмитрий Афанасьевич вспомнил, что видел уже эту пару на перроне, около своего вагона. Несмотря на поздний вечер, их тесно обступили провожающие, и молодежь и люди в возрасте. Все разом громко говорили, смеялись и то и дело звонко целовали уезжавшую. Проходя одиноко в вагон, Дмитрий Афанасьевич улыбнулся, подумав, что перрон — единственное место, где целуются не стесняясь.
Читать дальше


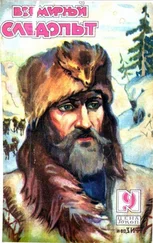






![Михаил Зуев-Ордынец - Бунт на борту [Рассказы разных лет]](/books/389798/mihail-zuev-thumb.webp)


