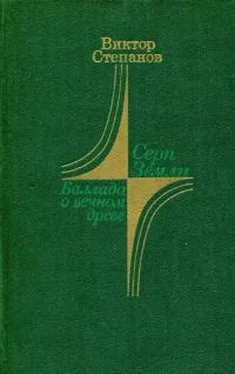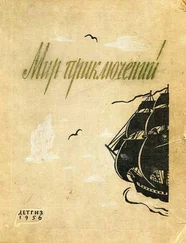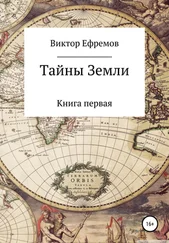Но это желание общения с человеком не от предчувствия ли близкой и опасной разлуки? Может быть, разлуки навсегда? В такую интуицию собак не хотелось верить, но и не думать об этом было невозможно. С этими мыслями и подошел Владимир Иванович к домику, хозяйке которого сегодня предстояло стать героиней дня.
Две темные блестящие вишенки глаз — вопрошающих, но уже с тем оттенком спокойного любопытства, какое было характерно для собак, прошедших все огни, и воды, и медные трубы предполетной подготовки, — глянули на него. Прядая темными чуть обвислыми ушами, собака склонила набок голову, стараясь по одному только выражению лица понять, чего хочет от нее Владимир Иванович. Он открыл дверцу, и она, секунды две-три помешкав, еще раз подняв на него глаза-вишенки, соскочила по лесенке вниз, заюлила под ногами, ткнулась влажным холодноватым носом в подставленную ладонь.
— Ну, здравствуй, здравствуй… — проговорил Владимир Иванович, испытывая неловкость оттого, что не мог назвать собачку по имени.
Странная человеческая беспечность — это симпатичное, ласковое, не совсем, правда, белое, а какое-то дымчатое существо не имело имени. В списках вивария собачка значилась под лабораторным номером 238, но не будешь же звать ее по номеру! Потому-то симпапульку звали всяк по-своему, как кому вздумается: Дымка, Тучка, Тиша и даже Точка. К чести 238-й, из сочувствия к представителям высшего земного разума она откликалась одинаково чутко на любое имя.
— Ну, пойдем, пойдем, — сказал Владимир Иванович, направляясь к выходу, и через секунду дымчатый клубок катился уже далеко впереди него.
Ослепляющий голубой свет марта заливал поляну. Судя по теплу, погода в этих краях давно уже обогнала календарь. Свежесть еще улавливалась дыханием, но ее сминал, прогонял подступающий зной, и было приятно смотреть на редкую, доверчиво выглянувшую травку, которая в подмосковных краях решается показаться только в мае. К этим травинкам, и кинулась собачка. И, остановившись, не мешая ей, Владимир Иванович подумал о том, что, наверное, очень похож сейчас на столичного жителя, вышедшего в воскресный день прогулять свою собачонку. Да и глядя на этот дымчатый клубочек, очутись он в московском дворе, кто бы мог подумать, что через каких-то три-четыре часа эти милая мордашка глянет с экранов всех телевизоров, какие есть на земле. «А может, она в последний раз бегает по планете и эта травинка, которую она так старается сорвать, может, эта травинка — последняя ниточка?..» Ему, конечно, было ее жаль, очень… Но от исхода ее полета зависела теперь не только ее собственная жизнь. Уж слишком много других «датчиков» было привязано к этой неказистой и такой милой собачонке.
Желтый огонек бабочки замелькал над поляной, дымчатый клубок покатился за ней, но замешкался возле Владимира Ивановича, словно спрашивая разрешения порезвиться. Пожалуйста — разрешил глазами Владимир Иванович и уловил в ответном блеске собачьих глаз даже нечто вроде иронии, как будто, перехватив его мысли, она хотела сказать: «Не волнуйся!» Не волнуйся, говорили ее глаза, все обойдется. Ну смотри, какая я тренированная: вот прыгнула и почти достала до бабочки; но я ее не цапну, пусть живет и летает; вернусь — и тогда мы еще поиграем…
Вот так же успокоительно-доверчиво смотрели на него четыре года назад глаза Лайки. Он гулял с ней перед стартом на этой же лужайке, только тогда была осень, ветер завивал песок и Лайка все больше жалась к его ногам. У нее были чуткие, очень выразительные уши — словно два надломленных пальмовых листа, — по этим ушам сразу улавливалось любое движение собачьей души. Я верю тебе и твоей диковинной машине, на которой зачем-то надо лететь в небо, просемафорили тогда уши Лайки, ты не волнуйся, я вернусь, вот увидишь…
Чувство непростительной вины перед этой ее доверчивостью не проходило до сих пор. Он-то знал то, о чем даже не подозревала Лайка: он знал, что завтра в удобной, сделанной на совесть кабинке, застеленной пробковым полом, напичканной хитроумными приспособлениями для кормления и очистки воздуха, — завтра в этом удобном ложе Лайка будет отправлена на верную гибель. Тогда еще не умели возвращать аппараты на Землю.
Сейчас он вспомнил все до подробностей: как, опутав проводками датчиков, Лайку усадили в кабину, как закрыли колпаком, как собачий домик укрепили на стальном крюке подъемного крана в носовой части ракеты. Лайка подчинялась каждому приказанию, каждой дотрагивавшейся до нее руке… Она верила, она доверяла людям в белых халатах, и это как бы ею самой подчеркиваемое доверие, ее мордочка, спокойно поглядывавшая из иллюминатора там, на переезде, или уже когда готовили ракету к старту — Владимир Иванович сейчас точно не помнил, — настолько обострили чувство вины, что он пошел на поступок почти невероятный: попросил у Королева разрешения отвинтить на минутку в кабине пробку и дать Лайке напиться. В этом не было никакой необходимости: приготовленная в дорогу пища, упакованная в автоматическую кормушку, содержала нужную воду, но чистой воды в кабине не было. Все знали, как относился Королев к подобного рода просьбам, нарушающим стартовый регламент космодрома. А тут, можно сказать, прихоть, пустяк… Гром и молнии должны были обрушиться на Владимира Ивановича — в подобных прогнозах ошибок обычно не было. Но что-то произошло с Главным. Встал, заглянул в иллюминатор, отвел глаза:
Читать дальше