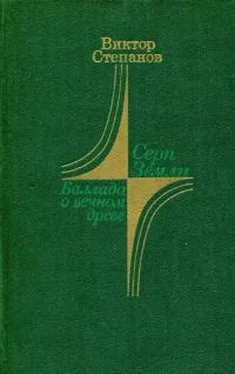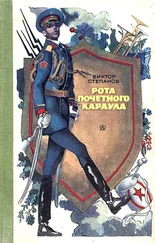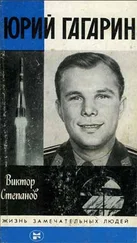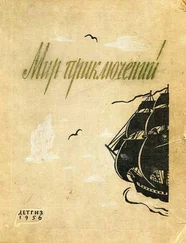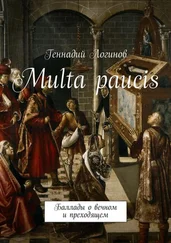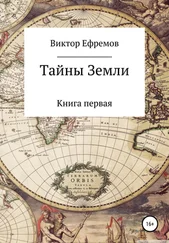Мы облепили корабль, стараясь помочь космонавтам и мешая друг другу и им. Откуда взялось столько народу — ведь степь была пустынной еще каких-то пятнадцать минут назад. И только сейчас, за притихшим, не решающимся переступить незримую, никем не обозначенную черту полукругом толпы, увиделся трактор, тот самый, что казался оранжевой игрушкой сверху, из вертолетного иллюминатора. Должно быть, совсем недавно он был так ярко покрашен, а сейчас, пыльный и брошенный трактористом, словно бы обидчиво стоял далеко в стороне. Да, как будто что-то укоризненное обозначилось и в остановленных внезапностью его отшлифованных гусеницах-траках, и в поблескивающем лезвии плуга, захватившего, но так и не отвалившего тяжелый пласт и как бы споткнувшегося на полшаге.
Открывшийся взгляду трактор заставил увидеть и другое: корабль сел как раз посреди пахоты, и вся она теперь как бы на расстоянии цирковой арены была затоптана, заслежена, примята десятками ног.
Странно — это первым заметил Андриян. Да, да, в тот момент, когда Виталий сгреб сразу обеими руками землю и поднес к лицу, когда он еле слышно, наверное только самому себе, сказал: «Здравствуй, родная!», Андриян обеспокоенно повел глазами вокруг и озабоченно произнес:
— Землю-то не топчите! Не топчите землю! Человек же пашет, а вы…
Андриян произнес это так, словно трактористом был он сам.
И все посмотрели сначала себе под ноги, а потом оглянулись на трактор. И вроде бы попятились. И в наступившей тишине кто-то восхищенно проговорил:
— Смотрите, а трактор-то… под цвет парашюта!
И правда, круги парашютного купола, сникшего неподалеку, были такие же оранжевые.
— Не трактор под цвет парашюта, а парашют под цвет трактора, — философски поправил кто-то.
И толпа, прихлынувшая к спускаемому аппарату, и трактор, обидно равнодушно оставленный в стороне, и Виталий, уткнувшийся в ладони, полные теплой, пышной земли, и Андриян, со свойственной ему мягкостью выговаривающий за то, что наследили на пахоте, — все это вспомнилось мне через много лет за тысячи километров от казахстанской степи.
…Апрель был в самом начале, в той ослепительной синеве неба, в ветлах, увешанных крикливыми гроздьями галок и грачей, во влажном запахе земли, которая жадно ждала плуга и первых зерен. Укатанная гусеницами тракторов и колесами автомобилей дорога привела меня в Шоршелы — родное село Андрияна Николаева. Здесь каждая тропинка знакома ему. Те же ветлы шумели над деревянным домиком школы, наверное, те же грачи и галки передразнивали друг друга. А то, что по сельской улочке проходил недавно, блестя орденами и погонами, генерал, чем-то схожий с мальчишкой Андрияном, когда-то ловчее всех лазившим по деревьям, им до этого не было дела, они помнили того, цепкого, кого действительно звали Андриян.
Теперь в бывшей семилетке, которую он окончил, — музей. Странно, уму непостижимо видеть в классе, в комнатушке, где мальчишка складывал по слогам первые слова, огромный, в два с лишним метра диаметром, похожий на прокаленное пушечное ядро шар — спускаемый аппарат «Востока». Невольно посматриваешь на потолок, как будто шар с Андрияном внутри проломил крышу и опустился прямо сюда. И другая, поражающая удивительным совпадением мысль приходит неспроста: школа разместилась в бывшей церкви, и космический пришелец с божьих небес ухнул примерно в районе алтаря…
Еще цела поцарапанная парта, за которой сидел Андриян, а напротив тертая-перетертая тряпкой классная доска с начертанными детской рукой словами: «Анне», что означает по-чувашски «мать», и «Тован сершыв» — «Родина». Первые слова, которые здесь научился выводить будущий космонавт… Но кто мог знать тогда, что в классе почти рядом с его партой упадет с неба обугленное звездное ядро? И что на одной и той же стене поместят возле пурака — берестяного лукошка — тубы с космической пищей: «Черносмородиновый сок», «Суп-пюре мясной»… А эти домотканые сарафаны и рубахи уживутся с оранжевыми фантастическими костюмами — нет-нет, совсем нездешнего, не то что чувашских краев, а даже иной планеты жильца.
Два мира — земной и звездный, — стараясь привыкнуть друг к другу, но в то же время разные, поселились в старинном доме. Но что же все-таки соединяло, сближало их? Неужели вот эти похожие по размерам на конфеты ржаные хлебцы, что космонавты берут с собой на орбиту? И почерневшие от земли руки крестьян, что смотрели с уже выцветающих фотокарточек? Александров Петр — тракторист, Быкова Любовь — птичница, Волин Михаил — комбайнер… Передовики колхоза имени космонавта А. Г. Николаева, где выращивают нынче на каждом гектаре почти по сорок центнеров зерновых. Что-то соединяло незримо, как корни дерева, две газетные вырезки: «На войну из Шоршел ушло сто тридцать два человека, не вернулось с войны — шестьдесят четыре» — и Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении летчику-космонавту Андрияну Григорьевичу Николаеву второй медали «Золотая Звезда» за успешное осуществление восемнадцатисуточного космического полета.
Читать дальше