При самом беглом взгляде на этого человека ясно, что он одинок, неухожен, всеми забыт и ни в ком уже не нуждается, привык к своему сиротству. Не живет, а доживает.
Стою, смотрю вслед человеку, ставшему собственной тенью. Кто ты? Что делал в лучшие свои годы? Знал ли я тебя? Наверняка знал. Но ты сейчас так сам себя приземлил, что стал неузнаваем…
Старик медленно брел в гору, в верхнюю часть улицы Щорса. Часто останавливался, вытирал большим клетчатым платком лицо. Куда он пойдет? В конце тополиного тоннеля три дома. Слева — Константина Головина, справа — начальника горнорудного управления Колокольникова. Прямо, в тупике, — литые чугунные ворота ночного профилактория.
Старик свернул направо. Значит, Колокольников?
— Тихон Николаевич! — окликнул я.
Старик медленно обернулся, безучастно посмотрел в мою сторону. Я подошел к нему.
Более четверти века Колокольников был начальником горнорудного управления и пяти агломерационных фабрик. Сотни миллионов тонн руды выдал на-гора, превратил в агломерат, пищу для домен. Получал ордена в каждой пятилетке. Герой. Воспитатель горняков трех поколений. Инженер, закаленный в первые годы социалистического строительства. До чего же он сдал!
Называю себя. Прошу простить, что не сразу узнал его. Слушает меня строго и не спешит раскрыть рта. Дорого стал ценить стариковское слово…
Неприветливым людям ничего не стоит смутить меня, выбить из колеи. Ни в чем не чувствую себя виноватым перед Колокольниковым, но растерялся. Говорю первое, что приходит в голову:
— Что же это ты, Тихон Николаевич, в разгар рабочего дня домашними делами занимаешься?
Случайно сказал то самое, что только и способно вывести его из враждебной немоты и глухоты.
— Мои рабочие дни кончились!
— Как, разве ты уже не начальник горного управления?
— Никто я! Отставной козы барабанщик. Пенсионер ничтожного значения.
Голос хриплый, вроде бы простуженный или пропитый. Белые, бескровные губы. Желтоватые от никотина зубы. Под глазами мешки.
— Как это ты, товарищ Голота, не побрезговал мною?
— Побрезговал? Как я могу брезговать старым товарищем по партии, по работе, одним из самых славных ветеранов Солнечной?
— Мною сейчас многие пренебрегают…
— Ты что, Тихон Николаевич, во хмелю? Или заговариваться стал?
— По одежке протягиваю ножки. Кукарекаю, образно говоря, как велено.
— Говори по-человечески. Что случилось? Почему бросил гору, на которой трудился всю жизнь?
— Что ж, можно и по-человечески. Не бросал я ее, она меня бросила… По приказу одной высокопоставленной личности.
— А что это за личность? Есть у нее звание, фамилия?
— Чего другого, а чинов и званий у нее целый мешок. — Тихон Николаевич глянул на меня недоверчиво и зло, угрюмо усмехнулся. — Неужели не понимаешь? Отрыжка прошлого, образно говоря. Остаток доисторической эпохи… Я про Булатова говорю. — Он кинул на меня вызывающий, злой взгляд. — Слушай-ка, товарищ Голота, ты где сейчас работаешь?
— Все там же, в обкоме.
— Секретарствуешь по-прежнему?
— Да.
— Так. Хорошее дело. Ну, а к нам зачем приехал?
— Посмотреть, как вы тут живете.
— А я подумал, тебя послали укреплять сильно расшатанный за последнее время авторитет Булатова.
— Если он пошатнулся, то его не укрепишь никакими подпорками.
— Верно!
Он внимательно всматривался в меня чуть подобревшими глазами. Лицо его, заросшее седой щетиной, стало как бы светлее и моложе.
— У меня, товарищ секретарь, нет больше вопросов.
— А у меня есть, Тихон Николаевич. Скажи, с какой формулировкой Булатов отстранил тебя от работы?
— Расправился, а не отстранил… Долго рассказывать. Он сочинил большущий приказ. Разжевал каждую мелочь. Мне оставалось только проглотить директорскую кашицу, образно говоря. А меня стошнило от одной мысли глотать жвачку.
— А ты попроще, без образности, можешь обойтись?
— Попробую… Булатов, как ты знаешь, инженер-прокатчик. Ну и вот, не зная броду, сунулся в воду. Не посоветовавшись со мной, состряпал с помощью своих горе-помощников ряд мероприятий, якобы направленных на улучшение работы горнорудного управления, Если бы я выполнил его предписания, комбинат через год или два остался бы без руды. Домны и мартены мне дороже директорского самолюбия. Партия полвека учила меня быть смелым, твердым в своих убеждениях, не брать на веру самое якобы авторитетное слово, не говорить и не делать ничего такого, что противно партийной совести. Я заявил ему в самой резкой форме, да еще при людях, на большом совещании, что он некомпетентно подошел к нашим острым проблемам. В общем, немало было сказано правильного, но немало было и лишнего, запальчивого. Слово не воробей, вылетело — не поймаешь. Вскоре после моего выступления последовало наказание. Найдя подходящую зацепку, Булатов закатил мне выговор. Через некоторое время влепил строгача якобы за отставание горных подготовительных работ. Потом расщедрился на самый строгий, с последним предупреждением. И свою месть за непочитание начальства завершил приказом об увольнении «в связи с уходом на пенсию». Вот так!
Читать дальше
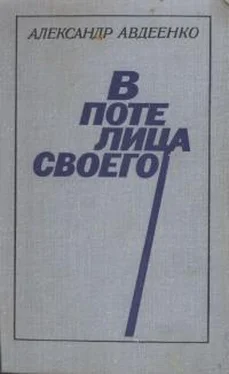

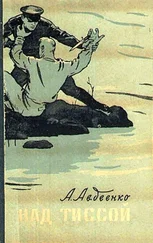


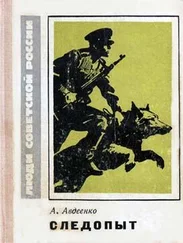
![Александра Авдеенко - Бойся своих желаний [СИ]](/books/416312/aleksandra-avdeenko-bojsya-svoih-zhelanij-si-thumb.webp)



