Проскочили под стальными переплетами пешеходного перехода. Зной раскаленной пустыни волочился за поездом. В его зону нечаянно попала какая-то девушка в синих брюках и белой кофточке. Испуганно отбежала в сторону, остановилась, поправила светящиеся волосы, встретилась со мной взглядом и засмеялась.
Расстояние от второго мартена до стрипперного небольшое, каких-нибудь пятьсот метров. Но я промчался по этому горячему отрезку пути, будто по гигантскому, в сотни километров, пространству. Все, что было, вспомнил, продумал, прочувствовал. Спасибо, «двадцатка». Сегодня я открыл еще одну тайну жизни: счастье стремительного движения из настоящего в прошлое, из прошлого в будущее. Трудовая юность — великая награда в старости.
Осторожно въезжаем под крышу стрипперного корпуса. Останавливаемся. Мостовой кран снимает с металла изложницы. Малиновые, сизо-малиновые, все еще пышущие жаром, в легкой окалине слитки водружаются на массивные тележки. Сплотив из них поезд, толкаем его дальше, к нагревательным колодцам блюминга. Кран, вооруженный клешнями, обхватывает головной слиток, возносит его под крышу и точно опускает в крайний колодец-печь.
Все! Мое путешествие завершено. Уступаю место на правом крыле паровоза его законному водителю — Кузнецову. Он смотрит на меня новыми глазами: доверчиво, с дружелюбной улыбкой, как на своего испытанного напарника.
— Ну что, отвел душу? Легче стало?
Сказал те самые слова, в каких я нуждался. Я ему по-свойски улыбаюсь.
— Желаю тебе, Степа, таскать и не перетаскать наш горячий металл. Будь здоров.
В последний раз прикасаюсь к паровозу. Скоро разрежут тебя и направят в мартен. Ты превратишься в сталь, начнешь вторую жизнь. Станешь автомобилем, или комбайном, или электровозом.
Торопливо спускаюсь по железной лесенке вниз, на землю, и не оглядываясь ухожу прочь. Вслед мне несется длинный пронзительный гудок. Прощальный привет.
…Боль не давала о себе знать весь день, всю ночь. Возможно, потрясение, которое я испытал сегодня, сочиняя прощальное письмо и потом увидев свою «двадцатку», на какое-то время — может быть, навсегда — устранило боль и ее причину. Подобные случаи бывали. Так утверждают некоторые наши психиатры и невропатологи. И врачи из Института психосоматической медицины в Париже. С их сочинениями я основательно познакомился…
Вечером ко мне в гостиницу прикатил на своем такси Егор Иванович. Неутомимый, шумный, веселый, несмотря на свой длинный и трудный рабочий день.
— Я опять по твою душу, Саня. И не сам по себе. В моем лице ты видишь представителя комбинатской общественности. Наши железнодорожники приглашают тебя на свой исторический праздник. Состоятся проводы последнего заводского паровоза. И этим последним паровозом оказалась «двадцатка», на которой ты лихо спускал с горы хопперкерные поезда с рудой и таскал чугун от домен к разливочным машинам и мартенам. «Двадцатка» уйдет на покой, в заводской тупик, на паровозное кладбище, своим ходом. И управлять ею будешь ты, первый, самый первый ее машинист!
— А кто из ветеранов будет на проводах? — спросил я. — Атаманычева пригласили?
— Отказался Алексей Родионович. Сказал, что на «двадцатке» никогда не работал.
— Это не имеет значения. Атаманычев один из старейших машинистов, он первым, самым первым, осваивал горячие пути комбината.
— Говорил ему, это самое, и такие слова.
— Понятно! Не захотел подняться вместе со мной на правое крыло «двадцатки».
— Прямо так не сказал, но что-то вроде этого было. Здорово ты, Саня, это самое, залил ему за шкуру сала.
Вывалив короб новостей и не пожелав до конца узнать, как я к ним отношусь, Егор Иванович исчез. Уверен, что воля коллектива священна для меня. Так оно и есть.
Что ж, полагаю, Алексей больше потерял, чем я. Из-за личной неприязни к Голоте не стоило пренебрегать историческим событием.
Позвонил и Колесов, повторил просьбу Егора Ивановича.
Великое множество народа собралось на сравнительно небольшой площади. И все равно даже в такой толчее бросился в глаза Алексей Родионович. Рядом со мной, на правом крыле «двадцатки», праздновать отказался, а в гуще народа — пожалуйста.
Я бы увидел Алешу, будь он и не так приметен. Тянется моя душа к нему.
Митинговать, как и работать, флагман металлургии великий мастер. Он с младенчества пристрастился к торжественным речам, алому шелесту знамен, грому маршей, к коллективному, в пять тысяч глоток, а то и больше, пению «Интернационала». Уложен последний рельс новой дороги, идущей от сердца страны в нашу глухомань, — митинг! Первый паровоз доставил нам первый эшелон с грузом — митинг! Пустили в ход степную пекарню, выдали людям первый хлеб — митинг! Обтесали первые бревна, вбили первые гвозди на строительстве временной электростанции — митинг! Заложили фундамент постоянной ТЭЦ — митинг! Отгрохали бетонную плотину на древней реке в разгар лютой зимы — митинг! Вырыли котлован для будущей домны, положили в ее фундамент первый кубометр бетона — митинг! Приступили к монтажу, закончили монтаж — митинг! Поставили на сушку домну ивановну, задули, наполнили башню тысячеградусным ветром, коксом, рудой, флюсами, огнем своих душ, выдали первые чугуны — митинг! Сотворили собственную сталь — митинг! Отчеканили, протащили через стальные валки блюминга белые слитки — митинг! Выполнили и перевыполнили первую пятилетку — митинг! Закончили вторую, третью, пятую, седьмую — митинги! Выплавили сто миллионов тонн стали со дня рождения комбината — митинг! Двести — митинг! Двести пятьдесят — митинг! Получил комбинат орден Ленина — митинг! Еще один, Трудового Красного Знамени, — митинг!
Читать дальше
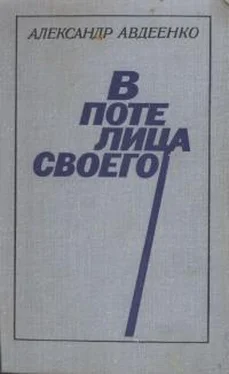

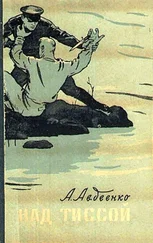


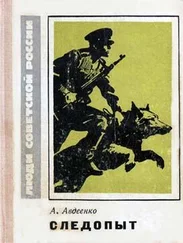
![Александра Авдеенко - Бойся своих желаний [СИ]](/books/416312/aleksandra-avdeenko-bojsya-svoih-zhelanij-si-thumb.webp)



