— Переменился ветер? Недавно, помнится, ты собирался побить мировой рекорд.
— Тогда печь была еще ничего себе, внушала доверие, а сегодня…
— Разуверился?
— Советуюсь с вами.
— Смелость города берет.
— Так-то оно так, но смелость не исключает предусмотрительности.
— Это само собой. Для чего ты, Костя, завел этот разговор? — Булатов усмехнулся тонкими губами и одним глазом посмотрел на собеседника. — Испугался собственных замыслов? Рука, занесенная для победного удара, повисла в воздухе?
Головин не отвечал.
— Хочешь печь на ремонт поставить? — жестко уточнил Булатов.
— Пора. Боюсь судьбу искушать.
— Так бы прямо и говорил, а то крутит, юлит, вертит туда-сюда! Ну что же, останавливай, если у тебя другого выхода нет…
Головин, глядя на двухванную печь-великаншу, задумчиво произнес:
— Светится, матушка. Но все-таки стоит, варит сталь…
Булатов в тон ему подхватил:
— Сталь, которая сейчас очень и очень нужна и комбинату, и министерству, и стране.
— Так вы полагаете можно еще повременить с ремонтом?
— Я тебе этого не говорил. И не скажу. Сам решай, что и как.
— Значит, надо остановить?
— И этого не предлагаю.
— Что же делать?
— Ишь какой ловкий! Хочешь спрятаться за директорскую спину?
— Я прошу совета у старого и опытного инженера.
— Перестраховка под видом потребности посоветоваться. Попытка получить от директора вексель в случае просчета на собственную непогрешимость. Не получишь! Взыщу полной мерой. И, конечно, воздам по заслугам в случае победы. — Он глянул на часы. — Вот такая ситуация на четырнадцать часов восемнадцать минут.
Прошла неделя. И еще раз появился директор в первом мартене около печи-долгожительницы. Ласково посмотрел на нее, перевел взгляд на Головина, улыбнулся:
— Стоит, а?
— Светится, полыхает крыльями, вот-вот закукарекает, но стоит.
— А ты боялся!
— Было такое дело. Смелость города берет. Старая истина, но каждый пробирается к ней собственным путем…
Посмеялись старый и молодой инженеры, директор комбината и начальник цеха, и разошлись.
Печь-рекордистка стояла еще неделю, потом рухнула. Вскоре пошла под откос вторая. Великая это беда — незапланированное выбытие мартеновских печей из строя. В таких случаях потери неисчислимы. Заблаговременно ничего не подготовлено для восстановления — ни материалы, ни люди, ни механизмы. Нарушается общий график. Авралы, штурмовщина, неразбериха, нервотрепка…
Такова предыстория конфликта Булатова с Головиным. Ну, а теперь от недавнего прошлого вернемся к настоящему.
После того, как пятиэтажная громада управления комбината опустела, Булатов позвонил в кабинет Воронкову и спросил:
— Чем ты сейчас занят, главный?
— Укладываю бумаги, собираюсь домой. Жена обещала накормить грибным супом, пирожками с капустой, жареной индейкой. Сегодня у нас праздник: дочери исполнилось десять. Может, и вы пообедаете с нами, Андрей Андреевич? Вот было бы хорошо.
— Не до этого сейчас. Дела в первом мартене такие, что хоть волком вой. Волком, который попал в капкан…
— Отвлечетесь на час-другой от дел, Андрей Андреевич… Поедем! Мои домашние будут рады. Давно вас не видели. Года два, пожалуй.
— Хочу, но не могу. Не имею права. И ты задержись. Пожалуйста. Потолковать нам с тобой по душам надо. Заходи.
Воронков положил трубку внутрикомбинатского телефона, набрал номер городского, сказал жене, чтобы обедали без него, и пошел в кабинет директора. Было досадно, что сорвался семейный праздник. Но досаду пересилило любопытство: какой разговор собирается вести с ним Булатов?
Воронков был очень терпим, охотно прощал людям прегрешения житейского характера. Нет на свете человека и не может быть, считал он, идеального во всех отношениях. Люди есть люди. Черствость, вспыльчивость, заносчивость Булатова, на взгляд Воронкова, были второстепенными чертами его характера. Главное в нем — преданность делу народа, умение организовать коллектив комбината, большая профессиональная подготовка. Это, в конце концов, и определяло сносное, в общем, отношение Воронкова к Булатову.
Булатов в одиночестве сидел за огромным столом. Руки, сжатые в кулаки, выложены на полированную столешницу. Роговые очки еле держатся на кончике носа. Губы стянуты. Узкий, с залысинами лоб наморщен.
— Извини, что я лишил тебя семейного праздника. Такое, брат, дело…
Воронков кротко улыбнулся и, чуть сощурясь, близоруко через сильные стекла очков вглядывался в директора.
Читать дальше
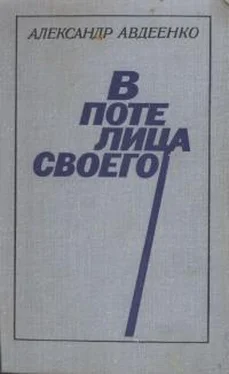

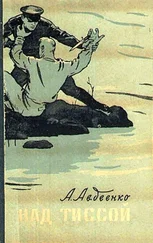


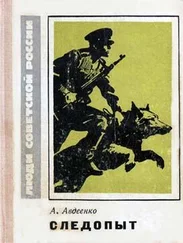
![Александра Авдеенко - Бойся своих желаний [СИ]](/books/416312/aleksandra-avdeenko-bojsya-svoih-zhelanij-si-thumb.webp)



