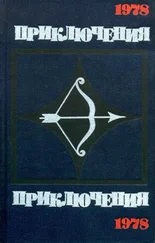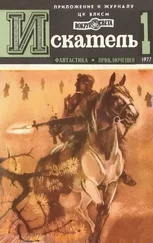Наступило молчание. Колеблющийся свет снарядной гильзы смутно освещал лица сидящих: немолодое, широкое, словно вырубленное из дуба — Петрищева, тоже немолодое, сухощавое, будничное — Лукашкина и юное, одухотворенное, с мерцающими иссиня-серыми, цвета весенней грозовой тучи глазами — Сергея. Снова заговорил Воронич:
— Если подумать, сколько раз вот таким Евстигнеевым приходилось наставлять меня на путь истинный, как говорится, доводить до ума! Нет, мне везло на хороших людей.
— А я в армию пришел неграмотным, — вслед за Сергеем заговорил Петрищев. — Да, совсем неграмотным. Как говорится, ни бе, ни ме, ни ку-ка-ре-ку. В двадцать втором это было, и тогда немало таких, как я, приходило в армию из деревень, В ту пору общеобразовательная подготовка считалась одной из главных дисциплин, и в каждой части была такая должность — полковой учитель. И у нас один служил. Такой древний-древний старичок. Но строгий — упаси бог. Его больше командира полка боялись. Бывало, после марша или из наряда, глаза слипаются, а он долбит и долбит, не дает спуску нам, балбесам. Тогда злость брала, казалось, готов бы его в жгут свить, а теперь чаще отца родного вспоминаешь. Вот так-то оно было. За два года через один класс перелезал и только когда за седьмой перевалил, на «Выстрел» послали…
Лукашкин, доселе молчавший, отодвинул котелок, добродушно хмыкнул:
— У нас что-то вроде ночи откровений получается. Как на партколлегии. И мне, что ли, исповедаться? Впрочем, кому она не известна — жизнь районного партработника! Одна кампания кончается, другая начинается. И круглый год ты неделями дома не бываешь. Все в колхозах, в бригадах, в поле. А транспорт наш известный: то в бестарке по раскаленной степи трясешься, то шагаешь в слякоть по районному бездорожью. И черт те где только не ночуешь — и в вагончике трактористов, и на полевом стане, ткнувшись в солому, и на жесткой сельсоветской лавке. Приедешь домой грязный — в баню бы скорей, а тут посыльный из райкома: на заседание. Ну, явишься на квартиру под утро, согреешь на плитке чугунок кипятку, выльешь в корыто и ну соскабливать с себя вершковую грязь. А что выговоров на твою голову сыплется — страх. Иной раз по слабости человеческой подумаешь: сидеть бы в сберкассе или на почте на счетах пощелкивать, а как вечер — домой. Пообедал — и в нардом, кино смотреть, а нет — с сыном в шахматишки партию-другую. Но только тут же над собой и посмеешься: да ты же в той сберкассе на второй день от тоски на собственных подтяжках удавишься. Нет, партийная работа, она такая — к ней сердцем прикипаешь…
Зазуммерил телефон. Связист позвал командира батальона к аппарату. Звонил комдив, интересовался состоянием боевой готовности: батальон Петрищева стоял на главном направлении предполагаемого наступления немцев.
Офицеры поднялись из-за стола.
— Я во вторую роту пойду ночевать, — своим будничным голосом сказал Лукашкин, закидывая на шею ремень автомата. — Там больше всего новобранцев. Парные еще ребятишки.
— А я в первую, — решил Сергей. — У меня там много знакомых. Скучно не будет.
Некоторое время шли вместе — Лукашкин впереди, а Сергей ему вслед. Но вот ход сообщения раздвоился, и офицеры разошлись.
В блиндаже командира роты было тесно и душновато, да и спать не хотелось, и Сергей вышел наружу, прошел по узкому ходу сообщения в переднюю траншею и остановился, прислонившись к земляной стенке. Над окопами, ячейками, ходами сообщения, над позициями ближних и дальних батарей, над ничейной землей и над тем пределом, за которым начиналась местность, занятая врагом, — над всем окрест висела плотная тишина. Только изредка, будто спросонья, вдруг зальется вражеский пулемет. И опять все смолкнет. Даже слышно, как налетевший невесть откуда ночной ветерок порой прошелестит колосьями ржи-падалицы, которая в этом году самосильно вымахала в человеческий рост. Или прорежет тишину запоздалый взвизг суслика. А то вскрикнет кто-нибудь из спящих, свободных от боевого дежурства солдат. Не поймешь что — может, ребенка покличет, может, назовет имя любимой.
А с неба падали звезды. Одна за другой, оставляя косой огненный след. Но сколько их ни падало, просяная россыпь звезд на небе не только не редела, а становилась еще гуще.
Сергей стоял в траншее, прислушивался к звукам благостной июльской ночи, а в груди у него росло, ширилось, заполняя все клеточки естества, какое-то светлое, неповторимое чувство. Он не знал, чем оно вызвано, — то ли давешней встречей на пункте связи, то ли этим ночным ожиданием близкого боя.
Читать дальше