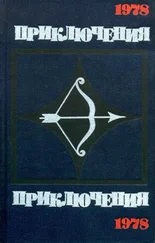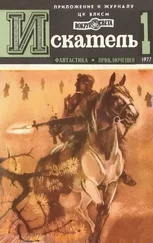Если бы было возможно, я бы только ради этого мгновения прожил тысячу жизней. Или идешь ты по парку. Только-только сошел снег, и деревья еще стоят голые. Вдруг стукнется тебе в висок майский жук. Ты выпутаешь его из волос, посадишь на ладонь и скажешь: «Ну, лети, лети, дурашка!» А разве не хотелось бы тебе пробежаться на рассвете по лугу и почувствовать, как росяной холодок обжигает босые ноги, а потом сидеть на берегу задумчивой речки и слушать, как играет, плещется в воде заревая щука? Нет, чертовски много хороших вещей дарит человеку жизнь!
— Чудные ваши слова, товарищ капитан, — усмехнулся Ступачок. — А хорошие. Их и впрямь бы в песню. Да разве уложишь?
В районе огневых позиций артбатарей Воронич и Ступачок расстались. Отсюда к переднему краю уже вели хода сообщения, и в целях маскировки ходьба в открытую запрещалась.
Сергей пришел в расположение батальона, того самого батальона, где еще совсем недавно был комиссаром, и ему показалось, что он здесь не был давно, непростительно давно. С того времени, как Воронича перевели в политотдел, его не покидало чувство смущения и как будто бы даже вины перед прежними своими сослуживцами, хотя каждому было ясно, что он не сам ушел из батальона, а подчинившись приказу.
На КП Сергей встретил комбата Петрищева, старика Петрищева, как звали его в полку, потому что из всех комбатов он был самым старым. Петрищеву было уже под пятьдесят, но он только к сорока выбился в командиры, а до этого много лет ходил в сверхсрочниках, тянул нелегкую старшинскую лямку. Казалось, весь он был пропитан казарменным духом, был грубоват, говорил на том армейском полужаргоне, которым любят щегольнуть старые служаки. Но по сути своей — Сергей это давно понял — Петрищев был человеком ясного, цепкого ума и младенчески доброй души.
— А, начальство! — оторвав от глаз бинокль и повернув к Сергею широкое рябоватое лицо, с грубоватой шутливостью проговорил Петрищев. — Трубач, сигналь «Слушайте все!» Сейчас будем принимать ценные указания.
Потом комбат шагнул к Воронину и протянул ему руку:
— Ну, здорово, комиссар. Как живешь-можешь?
Сергей пожал большую, каменно-твердую руку Петрищева и вдруг почувствовал себя так хорошо, так покойно, будто после долгой разлуки вернулся под отчий кров.
Зашли в блиндаж. Когда остались вдвоем, Петрищев спросил:
— Значит, надо ждать на рассвете?
— Возможно, и на рассвете. А может быть, через час. Каждую минуту надо ждать. Комдив держит палец на спусковом крючке, и все приведено в нулевую готовность.
— Ну, что же, — расправляя под ремнем складки гимнастерки, сказал Петрищев, — как говорится, хрен с ним, давай психическую. А теперь вот что: пойдем-ка, брат, в роты, к народу.
— Куда вы с ногой-то раненой? — возразил Сергей. — Я один пойду.
— Обойдется, — отмахнулся комбат и шагнул в проем блиндажа.
Три дня назад Петрищев был ранен в правую ногу. Минный осколок чиркнул по мякоти икры, и хоть пустяковая рана, а беспокоит. Комбат ходит, опираясь на палочку, и голенище сапога у него до половины распорото, иначе забинтованная нога не влезает.
В третьей роте встретили замполита Лукашкина. Это он сменил Сергея, когда того перевели в подив. Лукашкин уже немолодой, на вид простоватый, трудяга из райкомовских инструкторов.
Лукашкин вынул из сумки объемистую пачку бумаг.
— Вот, — сказал он своим негромким будничным голосом. — Заявления о приеме в партию. Думаю, что о настроениях бойцов докладывать после этого не приходится.
Вернулись на КП за полночь. Ординарец принес остывший ужин, поставил стаканы, обещающе побулькал флягой. Когда начал разливать, Сергей накрыл свой стакан ладонью.
— Все еще не научился? — усмехнулся Петрищев, показав свои крепкие, желтые, прокуренные зубы. — Чудак, это же положенная норма. Наркомовская.
Сергей улыбнулся открытой, ясной улыбкой:
— Вы же знаете, я из заводских ребят и науку эту постиг рано. То получку вспрыснуть, то премиальные обмыть. А потом так с этим делом получилось. Принимали меня в партию. Все как и полагается: зачитали анкету, я биографию рассказал, начались вопросы. Поднимается тут старик Евстигнеев, токарь высшей квалификации, из старых большевиков. На вид божий одуванчик — маленький, худенький, на голове серебристый пушок. А я же знаю: характер у него — наждак. Вот он и спрашивает: «Водку пьешь?» Не врать же мне, и я отвечаю, что, мол, иной раз позволяю себе. «Ты что же, — не унимается тот старик, — капитализмом ушибленный?» Как, говорю, я могу быть ушибленным капитализмом, когда родился в тот год, когда в могилу этого самого капитализма осиновый кол вогнали. «Так почему же пьешь?» — продолжает наступать Евстигнеев. Я отвечаю: дескать, другие пьют, и я за ними. «А ты знаешь, как это на политическом языке называется? — подскочил к самой трибуне Евстигнеев. — Это, братец ты мой, хвостизмом называется». После собрания Евстигнеев подошел ко мне, взял под руку. «Понял, — говорит, — что к чему? То-то, брат. Я раньше тоже любил в рюмку заглянуть. Но это при старой власти. А сейчас это мне ни к чему. При новой-то, при своей власти я и без вина веселый». После того собрания я и дал зарок и нарушить его не могу.
Читать дальше