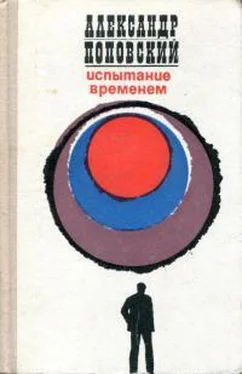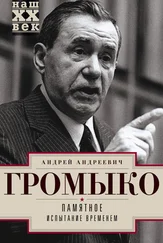Они редко виделись и еще реже разговаривали. Еврейские дети фуражек при встрече не снимают и за руки не здороваются. Так забываются друзья. Шимшон не проходил мимо Муни без привета. Он останавливал его, вдыхал нежный аромат орехов и спрашивал:
— Живешь?
Тот отвечал:
— Живу…
После некоторой паузы:
— Идешь домой?
Короткий взгляд на компас и сухой ответ:
— Да… Иду домой…
— Ну, иди…
Так продолжалось до памятного дня их встречи у ворот сада «Альгамбра».
Большая розовая афиша с виньетками и амурами в течение недели уведомляла жителей города, что в саду «Альгамбра» будет зажжен фантастический фейерверк и пущен воздушный шар. Сверх программы оркестр под управлением капельмейстера Цодикова исполнит новый марш, одобренный полковым командованием и «милостиво отмеченный его превосходительством херсонским губернатором».
Сообщение вызвало восторг посетителей, собиравшихся обычно за воротами сада без малейшей надежды обзавестись билетом. Никакие заборы не могли скрыть от них ни фейерверка, ни воздушного шара. Небо принадлежало им, и никто не мог заслонить его…
Шимшон пришел сюда одним из первых. Он расположился на лужайке и весь ушел в чтение сто двадцать шестого выпуска «Ната Пинкертона» под названием «Ока-Юма — японский шпион». Цирюльник нарядился по-праздничному. На нем была тщательно вычищенная и выглаженная тужурка поверх белой рубашки, поношенные, но опрятные брюки, стоптанные штиблеты, щедро покрытые ваксой… Гладко причесанные волосы лоснились, картуз кокетливо сидел набекрень. От Шимшона пахло вежеталем и мылом. Он сознавал неотразимость своей наружности и мысленно любовался собой.
В саду зазвучал гонг — весть о сладкой награде за неделю мечтаний и надежд. Скоро грянет оркестр, звуки всплывут над миром, наполнят воздушные просторы и нимбом окружат заходящее солнце. Небо затянется мглой, прозрачной и голубой, как полог кивота.
Оркестр заиграл, поляна оживилась, но Шимшону не пришлось погрезить. Вблизи показался Муня. Заметив Шимшона, он повернул к нему и опустился рядом на траву. На поляне запахло орехами.
Оба молчали, точно чужие. Шимшону не о чем было говорить… Муня подошел, пусть скажет, что ему надо, кто знает, не дожидается ли он кого-нибудь?.. Поляна не одному Шимшону принадлежит, сегодня каждый бедняк здесь хозяин…
Муня приподнялся на локтях, рассеянно оглянулся и тихо спросил:
— Пойдешь в сад?
Денежная наличность Шимшона не допускала подобной дерзости. К тому же трудно было поверить в искренность вопроса.
— Нет, не пойду…
Он вынул из кармана зубочистку и… условимся: зубочистка была только символом, как и ковыряние зубов было только выражением независимости.
Муня некоторое время помолчал и, как показалось его другу, тяжело вздохнул.
— Ты, Шимшон, богачей любишь?
Кого? Богачей? Странный вопрос! Почему их не любить? И какое до этого дело Муне?..
— Мне богачи не мешают…
— Ни капельки? Ну-ка, вспомни…
И вспоминать нечего… Подумать только, что стало бы с бедняками, не будь богачей…
— И детей их ты любишь?
На лице Шимшона остановился горячий взгляд, он как бы умолял: «Одумайся, Шимшон, за что их любить?..»
Мешают ли они ему? Нисколько… Эти парни в дорогих шинелях и серебряных кокардах всегда восхищали его. Он не так дерзок, чтоб заговорить с ними, с него достаточно видеть их… Мешают? Что общего между сыном портного, цирюльником Шимшоном, и детьми почтенных родителей?.. Они живут в многоэтажных домах, величественных, как земская управа, разговаривают с родителями по-русски, у них карманы полны мелочью… Если бы кто-нибудь из них подружился с ним, счастливей Шимшона не было бы на свете…
— Они мне не мешают, и в сад я не пойду… У меня нет денег…
— Пойдем, я проведу тебя без денег… Болячка богачам и их сынкам… Мы тоже люди…
Шимшон не двигался с места. Неделикатность Муни взорвала его. Какая дерзость! Оскорблять благодетелей города, людей, которые содержат больницы, богадельни, отпускают беднякам мацу на пасху, дрова на зиму, саван для погребения…
— Я не пойду туда, Муня, обойдешься без меня… Нечего танцевать на чужой свадьбе.
Он вынул из кармана свой розовый платочек — истинное украшение кавалера — и залюбовался новеньким кошельком из зеленого бархата. Ему незачем гоняться за чужими радостями. У него своих хоть отбавляй…
У Муни было холодное сердце, страстные речи не волновали его. Он вынул из кармана шагомер, убедился, что между его домом и «Альгамброй» тысяча триста шагов, и спокойно заметил:
Читать дальше