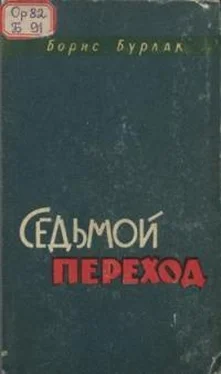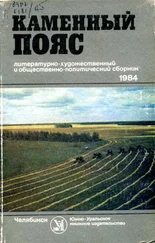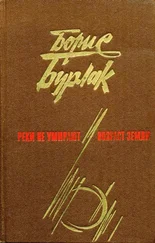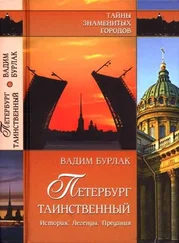— Неужели?..— проговорила она.
— Да, все кончилось.
Он и не знал, что его Эмилия умеет так радоваться. Вот она подбежала к нему, вскинула свои тонкие руки на его сутуловатые плечи и, смеясь, подпрыгивая, затормошила его, как мальчишку. О, да она сильная!..
И у него даже этот розовый шрам на лице поблек, стал незаметнее. Перед ней был совсем другой Максим, в точности похожий на того неунывающего парня, которого Эмилия знает по рассказам свекрови и золовок. Ей представилось, что жизнь начинается сначала, что все эти пятнадцать лет, с той встречи среди гарибальдийцев, были для них, Максима Каширина и Эмилии Милованович, лишь испытанием, хотя и очень суровым, без всякого удержу.
— Я знала, я чувствовала, што так будэт! Я вэрила! Я ждала!.. — без умолку говорила Эмилия, то сжимая ладошками его голову, целуя, то откинувшись назад и улыбаясь ему со стороны, издалека. Глубинный свет ее нерусских глаз прорвался наружу, и Максим понял, как неправ был он, считая ее любовь слишком грустной, даже горьковатой.
— Спасибо, Миля. Если бы не ты...
— Как так, эсли б не я?
— Да ты не поняла меня.
— Ох,— послышался из коридора голос Милицы.
Максим обернулся: в дверях стояли, взявшись за руки, обе дочери. Старшая смущенно, исподлобья посматривала то на папу, то на маму, а Дашенька таращила глазенки на сестру, так грубо остановившую ее на полдороге в комнату.
— Идите же сюда,— позвал их отец.
Девочки подбежали, и он ловко подхватил их, поднял к потолку.
— Ой, какие тяжелые! Ну ты, Милица, и растолстела.
— Нет, папочка, это Даша толстая, это она, она! — затараторила старшая.
— Да, подросли! Через год-два такую семью, пожалуй, и не поднимешь. Как думаешь, Миля?
— Ты все тэпер подымэш!..
Зря, зря говорят, что худая слава бежит, а добрая лежит: не успели Максим и Эмилия опомниться, как к дому, стоящему близ крутой излучины Урала, подкатил легковик Егора Егоровича. Приехала Зинаида,
— Ну, братец, от души поздравляю тебя! — сказала она с порога й, не успев пожать ему руку, поспешно отвернулась.
Эмилия тоже поднесла платочек к глазам. Девочки испуганно переглянулись, они не умели отличать слезы горя от слез радости.
— Ай-яй-яй...— покачивал головой Максим.— Да куда это годится? Что вы, в самом деле? Не доставало, чтобы заревели во весь голос. Постеснялись бы Милицы с Дарьей,— мягко укорял он их, чувствуя, что и у самого влажнеют веки (для слез, видно, тоже лиха беда — начало: оно было там, в горкоме).
Когда женщины ушли на кухню приготовить по такому случаю праздничный обед, Максим усадил дочерей на колени, задумался. Совсем немного отец не дожил. Не довелось ему окончательно убедиться в правоте меньшого. Конечно, отец и без того не сомневался, но все-таки, все-таки... Что же он хотел сказать перед смертью? Просто ободрить? Или там, в Южноуральске, было кое-что известно? Может быть, он умер успокоенный. Если бы знать это... Максим ласково гладил смуглую Милицу, вылитую сербку, и беленькую — истинно русскую Дашу, и снова, в который раз дивился мудрости крылатых слов, часто повторяемых отцом все эти годы: «Правда ни в огне не горит, ни в воде не тонет».
30
Прошел год, как Лобов вернулся на свою родину. И вот уже опять по степным летникам, подернутым бетонной коркой зачерствевшего чернозема, потянулись автомобильные обозы с хлебом. На пропыленных грузовиках опознавательные литеры чуть ли не всех соседних областей — от Среднего Поволжья до Среднего Урала. Шумно, людно на речных переправах, у станционных элеваторов, на полевых токах пшеничного края.
Наверное, нигде горожане так не тревожатся все лето напролет: сталь сталью, медь медью, никель никелем, но будут ли очередные две сотни миллионов пудов зерна? Южноуральская степь — исконная житница, и молодая слава ее индустриальных городов считается лишь прибавкой к старой славе земли-кормилицы, не раз выручавшей государство из нужды. Впрочем, не за горами и то время, когда эта степь станет давать столько же металла, сколько и хлеба — пуд на пуд.
Еще никогда Леонид Матвеевич не странствовал с такой охотой, если не считать тех первых путешествий в молодости, когда тебя поражает огромность мира, а не сами люди. Юность понимает кругозор буквально. Это уже потом, в середине жизни ты начинаешь приглядываться и прислушиваться к городам, самостоятельно открывая их без наивного подражания колумбам. В этом постепенном переходе от крупного масштаба к мелкому, от мелкого к мельчайшему и вырабатывается умение видеть жизнь в ее натуральную величину. И даже близких тебе людей ты познаешь заново. Ну разве мог он, Лобов, предположить в те, тридцатые годы, что увлекающаяся, мечтательная девчонка, созданная для какого-то заоблачного блаженства, абсолютно равнодушная к политическим страстям, сможет много лет спустя порвать с мужем, выбившимся не из семейной, из общественной колеи.
Читать дальше