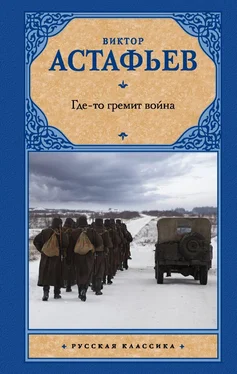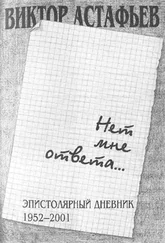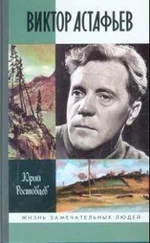Запах дыма! Привычный с детства, до того привычный, что перестаешь его замечать. Порой и досадуешь на него, когда ест им глаза. Но нет ничего притягательней и слаще дыма. Нет. Где дым — там огонь! Где огонь — там люди. Где люди — там жизнь!..
Вот она — дверь. Вот деревянная скоба, сколотая в середине, да не могу я ее открыть. Опустившись на приступок, оплесканный водой, на пристывшую к нему солому, на втоптанный в лед голик, я царапаюсь в дверь, как пес лапою, а в щели двери несет душной теплотой — вроде бы хомутами пахнет.
— Кого там лешак принес?
Я попытался ответить, но только мычанье выбилось из мерзлых губ. Слезы мешали словам. От дыма ли, от радости ли они катились и катились по скользким, ознобленным щекам, попадали в рот.
— Да кто там?
— Дяденька, помогите ради Христа! — сказал я, как думалось мне, громко, на самом деле промычал какую-то невнятицу.
Со мной произошло то, что происходило со многими чалдонами прежде и теперь — в крайнюю минуту они вспоминали Спасителя, хотя во здравии и благополучии лаяли Его. На фронте не раз мне доведется увидеть и услышать, как неверующие люди в смертный миг вспомнят о Боге да о матери, а больше ни о чем.
Но нет у меня матери, и бабушка далеко.
За дверью кряхтенье, скрип нар, нудный голос:
— А-ать твою копалку! Токо-токо ноженьки успокоилися, токо-токо анделы над башкой закружилися, и вот лешаки какого-то полуношника несут… И че ходят?..
Чалдон! Доподлинный чалдон! Пока встает и обувается, уж поворчит, поругается. Но пустит. Обязательно пустит. Обогреет, ототрет, последнее отдаст. Однако ж отведет при этом душеньку, налается всласть.
Чалдон, родной, ругайся, как хочешь, сколько хочешь, но открывай! Скорее открывай!
* * *
Чугунная плита об одну дырку — в огненных молниях. В трещины и меж кирпичных стенок выхлестывал дым с пламенем. Избушка наполнена гулом и дрожью. Волнами накатывает жара. В гуле печки, в ее потрескивании, неожиданно громких хлопках что-то дружески-бесшабашное. Так и хочется обхватить эту кособокую, умело слепленную печурку с треснутой плитой.
Но нет мне хода к печке.
Я сижу на дровах, ноги мои в лохани с водой, правая рука в глиняной чашке. На печку я смотрю будто собака на кость, которую ей пока не дозволено брать. И только потянусь я к печке рукой или грудью, хозяин этой избушки на курьих ножках кричит мне:
— Нельзя! Нельзя-а-а!
Он сидит на нарах, привалившись грудью к столу, исколотому шилом, избитому гвоздями.
Отдыхивается. Уработался.
Он оттирал мне снегом ноги, правую руку, побелевшую до запястья. Лицо он посчитал предметом второстепенным, и, когда добрался до него, было поздно. Лишь сорвал суконной рукавицей отмершую кожу со щек и правого уха. Почему-то я всегда зноблюсь правой стороной, а ранюсь и ломаю все с левой стороны…
Шорник растрепан. Его лохматая тень шарахается по избушке. Наконец он отдышался, утер потное лицо подолом рубахи и зачесал волосы назад женской гребенкой. Я потихоньку скулил и всякие подробности отмечал лишь мельком, в сознании моем они не задерживались.
— Задал ты мне работы! — заметил шорник и ободряюще поглядел на меня.
Во рту с правой стороны его обнаружилось пустое место. Но уцелевшие зубы белы и крепки, видать, серу с детства жевал человек и укрепил зубы. Я отвлекся на секунду, разглядывая шорника, затем снова запел от жжения и боли.
— Дак чей будешь-то? — не оставлял меня в покое шорник. По мягкости и приветливости его слов я определил — можно к печке. Но он повысил голос. — Не лезь! Не ле-езь! Дурная голова! Такая резь начнется — штаны замочишь! Потылицыных, значит? Катерина Петровна Потылицына кем доводится тебе? Бабушка!
Шорник всматривается, но лампешка с половиной горелки светила за его спиной на окне, и он, должно быть, плохо различал меня. Хозяин избушки до странности гол лицом — ни бороды, ни усов, лишь из черной бородавки, с копейку величиной, прижившейся на подбородке, торчат седые волосы и отсвечивают, когда он поворачивается к лампе. Голова его стрижена без затей, под кружок. Седые волосы, ровно подсеченные ножницами, спущены низко и зачесаны за уши. Мерещится мне, что мочки ушей проколоты. Голос шорника сипл и раздражителен. И вообще человек он сердитый, видать, тогда как все шорники и сапожники, мною прежде виденные, — народ пьющий, прибауточный, веселый. Те, о которых моя бабушка говаривала: «В поле ветер, в заду ум!» «Знать-то он из цыган!» — почему-то решил я, но отгадывать шорника, заниматься им дальше мне в общем-то невозможно. Не до него совсем мне.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу