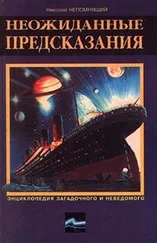— Мне приказали снять пломбы — я снял! — Он выхватил из кармана пиджака скомканный нечистый платок и, горько морщась, стал утирать усеянное потным бисером лицо и жилистую шею. — Ну и штрафуй! Штрафуй меня! — выговорил он с ожесточением, пытаясь сунуть платок куда-то мимо кармана. Запихнув его, наконец-то, в карман, он достал пачку «Беломора», чиркнул спичкой и тяжело задымил. — Думаешь, я молчал?.. Да только начальству доказывать — все равно что против ветра… плевать! А была бы моя воля, — он исподлобья покосился на грохочущий в пыльном тумане завод, — давно бы бульдозером снес эту рухлядь к чертям собачьим!..
Шугаев удрученно молчал.
Грохот цементного вдруг оборвался. Слышно стало тишину, приглушенные голоса людей, поспешный топот ног в дощатой галерее, и скоро из мутных прямоугольников дверей потянулись рабочие. Щуря на свету глаза, они отряхивались от пыли и двигались к низенькой пристройке, по-видимому буфету. Но вот они замедлили шаги, переглянулись и гурьбой подались к начальнику.
— Як Петрович, — выходя вперед, спросила женщина в дырявом комбинезоне, — этот самый, что ли, доктор-то санитарный? — Она раскрутила с головы видавший виды платок и хлестнула им по тощему бедру, выбивая цемент.
— Не доктор, Букина, а врач, — поправил Яков Петрович и обвел выжидательным взглядом рабочих.
Они подходили и, тесня друг друга, останавливались перед Яковом Петровичем и Шугаевым молчаливой стеной. При виде этих запудренных пылью фигур с вислыми плечами, Шугаева вдруг охватило то чувство смутного стыда и собственной вины, которые он всегда испытывал, встречая рабочих грязных цехов, потому что слишком уж разительным казалось ему внешнее отличие этих людей от него самого, с его безопасной и чистой работой.
— Так чё, товарищ санитарный врач? — На длинном лице Букиной отпечатался пыльный квадрат, охвативший нос и глаза. — Верно, что ли, болтают, будто вы цементный на излом добиваетесь пустить?
Отрывистые голоса подхватили:
— Цементный на излом, а нас? В подсобники?!
— Вы, что ли, нам платить будете?!
— Ну и пусть ломают! Сдыхать в этой пыли…
— Полсмены нынче просидели, покуда пломбы не сорвали!
— Вентиляторов пущай добавят. Об чем начальство думает?!.
Особенно волновались женщины и здоровенный парень в грязно-синем бушлате, распахнутом на голой груди, на которой сквозь цементную пыль голубела жирная татуировка. В его нацеленных в Шугаева темных глазах читались вызов и молчаливая враждебность. Этот взгляд и отрывистые голоса угнетали Шугаева. И захотелось успокоить взволнованных людей, сказать им что-то веское и убеждающее, он искал и никак не находил этих веских, убедительных слов.
— Ну, хватит базарить, — насупился Яков Петрович, медленно потягивая папиросу. — Для вас же человек старается. Понимать должны: силикоз — не насморк… Рыжову вон с Антиповым в больницу положили…
— А начхать я хотел на этот силикоз! — шагнул вперед парень в распахнутом бушлате, — Мне «валюта» нужна. О как! — Он сделал быстрое движение ребром ладони по горлу.
— Не волнуйтесь: закроют завод, работа каждому найдется, — сдержанно глянул на него начальник.
— На мельнице я зашибаю две бумаги, понял? А прикроют завод — опять копейки получать?! — Он говорил Якову Петровичу, но дерзкие, горячие глаза его косились на Шугаева.
На сухих, морщинистых губах начальника неожиданно мелькнула добродушная улыбка. Он потянулся к парню в бушлате и, хлопнув его по плечу, сказал:
— С такой комплекцией, Жернох, ты на любой работе две бумаги зашибешь! Разнюнился…
Женщины прыснули. Жернох оторопело оглянулся, увидел усмешки товарищей и, отпихнув какого-то парня, подался к буфету. Рабочие, посмеиваясь в его сторону, стали расходиться.
— Вот так-то и живем, — не то шутя, не то серьезно пожаловался Яков Петрович. — Сверху начальство жмет, снизу — рабочие. А придешь домой — жена начинает пилить: с детьми не занимаешься. А когда? На газеты и то не хватает времени. А книжку уж и не помню когда в руки брал. То собрания, то совещания, то аварии, а они у нас, при разбитом-то оборудовании, считай, что каждый день…
Со стороны песчаной траншеи донесся рев подъехавшего МАЗа. Требовательно зазвучал могучий сигнал.
— Эх, жизнь! — Яков Петрович швырнул окурок под ноги и заспешил к траншее трудной походкой измученного человека.
Шугаев вдруг почувствовал, как затылок его словно сжали пятерней. Он стал растирать заломивший затылок, но боль не стихала. Он добрел до трамвайной остановки, сел в вагон и попытался успокоиться, прикрыть глаза и ни о чем не думать.
Читать дальше
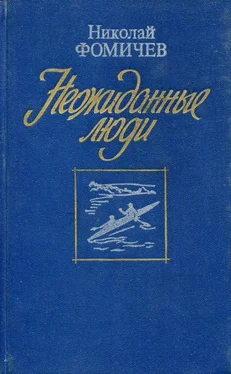
![Николай Фомичев - Во имя истины и добродетели [Сократ. Повесть-легенда]](/books/32136/nikolaj-fomichev-vo-imya-istiny-i-dobrodeteli-sokrat-povest-legenda-thumb.webp)