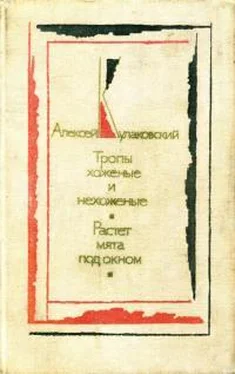…Слышит Богдан свою скрипку и шагает, кажется, в такт этой музыки… Потом в голос скрипки неожиданно вливаются далекие и чем-то очень знакомые и близкие сердцу звуки обыкновенной самодельной дудки.
…Желая хоть чем-нибудь позабавить маленького Пантю, он выбирал те счастливые часы, когда мальчик не был больным или увечным, и вел его в Манево. Вот этой дорогой, вот этой тропкой, по которой идет теперь сам. Меж кустов можжевельника и ольшаника они искали молодую рослую сосенку с большими прогонами за последние годы. У Богдана почти всегда был в кармане большой складной нож. Выбрав среди смолистых и колючих венчиков веток такую, что по одному своему виду напоминала дудку, Богдан наклонял сосенку и, хоть жаль было деревцо, делал умелый надрез, чтоб определить, какой там стержень, может ли он легко, не сломавшись, выкручиваться из свежей оболони.
Испытывать так приходилось иногда не одно деревцо, а несколько. Зато когда попадалось такое, что было пригодно на дудку, то и нужная трубочка выкручивалась быстро, будто сосенка сама отдавала свое лучшее годовое наращение, сама желала превратиться в голосистую дудку.
Но сырая трубка, из которой течет светлый смолистый сок, еще не дудка. Сняв кору, Богдан нес ее домой и подсушивал на солнце или на печи. Когда же Пантя хотел поиграть тут, в Маневе, а то и посвистеть, как лесные птицы, так отец делал ему свистульки из ольховой коры. Таких можно было наделать сколько хочешь; молодого ольшаника было тут много. Выходили дудки разных размеров и с разными голосами. Мальчик свистел в них, и его лепеховатыи рот желтел от этого и становился того же цвета, как и его суровые штаны, покрашенные в ольховой коре.
…От воспоминаний заныло, защемило грудь. Уже недалеко и Манево, оно хоть и медленно, но приближалось, а кладбище, где лежит теперь сын, будто бы нехотя, под каким-то неодолимым принуждением, отдалялось: от часовни до него было рукой подать. Не был отец на кладбище во время похорон, не наведался и после. Сегодня, когда отходил от часовни, что-то мрачное и подсознательное влекло его туда. Оттуда тянуло ветерком, приносило ночную свежесть и сырость… Казалось, что и запах березовой рощи донесся с этим ветром.
Березы растут на кладбище, Богдан повернулся лицом к ним, и сразу перестало казаться, будто там березы такие же бело-зеленые, плакучие, как и всюду в лесу. Перед глазами встали могилы: одна к одной, одна к одной…
Площадь под кладбищем не увеличивалась, может, от самого царя Гороха, а хоронят там своих покойников несколько близлежащих деревень. Как же найдешь теперь ту неприметную могилу? Говорили арабиновцы, что сын похоронен рядом с Сушкевичем. А где тот Сушкевич? Богдан никогда не видел этого места. Узнать своего по свежей могиле? Так там, может быть, не одна такая…
Тянуло быстрее в Манево не только по этой причине. Если б спросили о ней у Богдана, то, возможно, он и не сумел бы объяснить это словами. Пантя — сын. От этого не уйдешь, этого не вырвешь из души. Пантя времен свистулек — самая дорогая радость в жизни. Позднее эта радость порой перебивалась скрытыми мужскими слезами. В последние годы — особенно…
Но вот и Манево. Из первых же кустов навстречу выскочил Иван-Павлик. Хорошо, что темно, — не видно было глаз этого подростка. А когда наведывался он к Левону с поручениями от отца, когда был в Богдановой хате в последний раз, то смотрел на хозяина с таким удивлением и недоверчивостью, что у старика душа переворачивалась от такого взгляда. Очевидно, не мог парнишка уразуметь: как это чтоб у сына-полицая да был такой отец, что ему в отряде доверяют?
Прошли вдвоем несколько шагов между кустов, а дальше их встретил Аркадь Квас, с автоматом на груди, с гранатами за поясом. Богдан едва узнал его, а когда узнал, то почему-то подумал в первую минуту, что парня, видимо, умышленно прислали сюда, чтоб напомнить о прошлом и растревожить рану, которая так и не заживает и, наверно, никогда не заживет.
Говорить с Аркадем было тяжело, больно, хотя никакой собственной вины перед ним у Богдана не было и не могло быть. А парень искренне хотел поговорить с ним: может, потому, что давно не был в родной деревне, а может, от ощущения сиротства юная душа тянулась к уважительному соседу.
— Я тут вспоминал вас, — сказал Аркадь, поддерживая Богдана под локоть в тех местах, где уже привычный к ночным походам молодой глаз замечал на тропке ямку или кочку. — Часто вспоминал.
«Почему? — спрашивал сам себя Богдан, а вслух не говорил ничего. — За доброе, так, кажется, и не было чего вспоминать».
Читать дальше