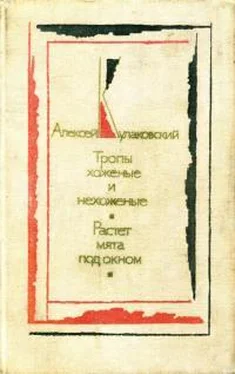— А ну, давай сюда!
Антипа подвели к повозке.
«Это он чуть не отправил меня на тот свет», — подумал полицай, стараясь вызвать в себе злость.
Но злость почему-то не приходила, а будто против воли появилось что-то похожее на жалость: перед ним стоял вроде бы совсем спокойный, домашний юноша со светлым пушком на верхней губе, мягкие — хотелось даже потрогать пальцами, — заросшие в лесных условиях виски спустились чуть ли не до половины впавших, видимо, за минувшую ночь щек, на макушке торчмя стояли еще совсем детские вихры.
— Так что?.. — почти машинально, по привычному шаблону, обратился начальник полиции к партизану. И дальше не знал, что сказать, о чем спросить. Помолчал, почмокал толстыми губами и будто только сейчас вспомнил, кто он такой и что должен делать. — Поедем? — спросил, оскалив в улыбке крупные зубы, и снова стал пронизывать парня диким взглядом. — Но поеду я один, а ты пойдешь пешком… Ходил когда-то в Голубовку?.. Ходил, конечно… В школу… и так бегал… Так вот, пройдешься сегодня еще раз! Последний!.. Попрощался с маткой?.. А то могу разрешить зайти в хату… Перед смертью каждому грешнику отпускаются грехи…
Подошел Пантя. Его тянуло забежать на минутку в свою хату, хоть глотнуть там воды из своего ведра, своей кружкой. У Квасов он не мог и подумать об этом, сидел или стоял возле порога, потом ходил или стоял во дворе, под окнами.
Антипа он почти не видел. Тут, возле повозки, они поравнялись, и Антип будто подался к нему, поднял запавшие и страдальческие, до краев наполненные болью и удивлением глаза. Их взгляды встретились, но Пантя выдержал взгляд всего какой-то момент, потом почувствовал, что его глаза не отводятся, не опускаются, а будто проваливаются в какую-то бездну вместе с ним самим. В голове закружилось…
— Хоть и нет надобности тебе спешить на тот свет, — продолжал свои иезуитские наставления начальник полиции, — поспеешь с козами на торг, но я из уважения к сопляку-герою, который осмелился стрелять в меня, предупреждаю, что если хоть одна твоя жилка рванется наутек, то моя пуля настигнет… И не ноги прошьет она, не руки, им и так уже перепало, а попадет как раз куда надо… Запомни это с первого шага!.. Марш!
Один из полицаев толкнул Антипа дулом в пятно засохшей крови на плече, погнал впереди повозки. Пантя тоскливо глянул на свою хату, облизнул пересохшие губы и пошел следом. Ему казалось, что в окне он увидел венчик седых волос отца, и после этого начали представляться две пары глаз: Антиповы и отцовские, разные по цвету, блеску, но, пожалуй, одинаковые по силе упрека, удивления и отчаяния.
Как одни, так и другие глаза были когда-то очень близкими: почти с тех пор, когда он стал узнавать их и отличать от других, а еще больше — когда начал понимать их.
Заметил Пантя, что Антип обернулся. Неужели ему хотелось еще раз глянуть на своего соседа, бывшего однокашника, на друга не очень давнего детства, который теперь стал предателем?.. А может, Антип хотел поглядеть на свою хату, на тот амбар, где прошли его детские годы, на те закоулки во дворе, где они оба когда-то хоронились, играя в прятки?..
Тихо, медленно отплывали и исчезали с глаз незабываемые их дворы и домишки, где когда-то были близкие и родные их сердцам каждый уголок, тропинка, каждый прут в заборе, бревно в стене. Когда-то Пантя знал Квасов двор и все закутки в строениях лучше, чем Антип или Аркадь и даже чем старший из них — Василь. И когда порой злоупотреблял этим и что-нибудь тащил домой, то не вызывал из-за этого обиды, и тем более мести от своих снисходительных дружков.
Панте показалось, что, наверно, не только Антип прощается со всем этим близким и родным, а должно быть, вот и он сам. И будто не в Антипа он стрелял сегодня ночью, а Антип в него. Трудно это представить, почти невозможно видеть Антипа на своем месте. Легче чувствовать себя на его месте. Не Антип вот теперь идет по своей родной улице, изнеможенный, мертвецки-бледный от потери крови, со связанными сзади руками, а он, Пантя Бычок, как часто зовут его тут все. Дула таких, как у него самого, карабинов упираются в его, Пантину, спину, почти голую, обожженную болью и кровью, искалеченную побоями. Дула такие холодные, намороженные, что только приткни к коже — прикипят. А спина горит — тело уже знакомо с пулями…
Минуют дворы, огороды, и огородишки, скамейки возле палисадников. Почти на каждой из этих скамеек случалось когда-то посидеть…
Хоть и раннее еще время, но никто в Арабиновке не спит: и старые и малые вышли из хат, стоят кто на улице, кто во дворах. И все знакомые, все знакомые!.. Хочется поклониться каждому, сказать что-нибудь хорошее, ласковое, попросить прощения, если когда-нибудь кого обидел…
Читать дальше