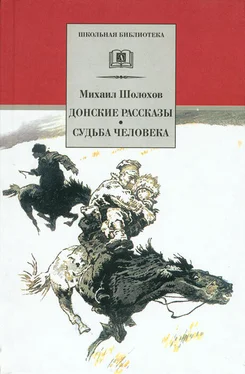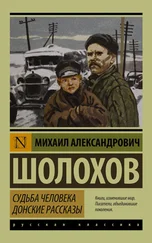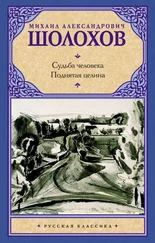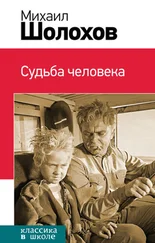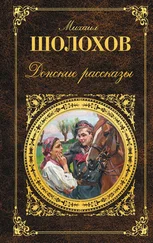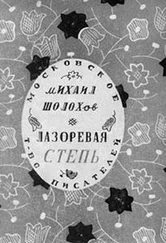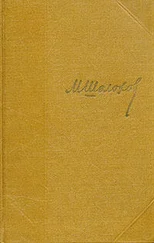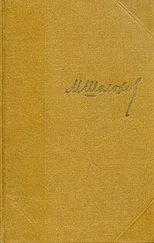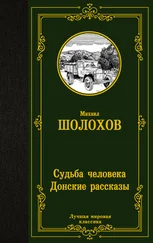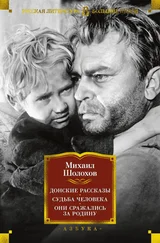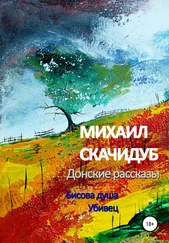Москва помогла Шолохову окончательно уверовать в свои силы, в свой собственный путь в литературе, в свой талант. Спасибо столице за науку! В послужном списке Шолохов писал: «С 10.1922 по 3.1923 – Москва, артель каменщиков; с августа 1923 года по май 1924 года – счетовод московского жилищного управления № 803…» В мае 1924 года, отпраздновав в столице свой день рождения, он возвращается с Машей на Дон, в станицу Вёшенскую. Поначалу они живут у родителей в Букановской и Каргинской.
Вот и кончилось унаследованное от отца желание к постоянной перемене профессий. Михаил Шолохов выбирает литературу.
Природа щедро одарила его поэтическим дарованием, к тому же он рано понял, как сложна и тяжела жизнь людей, и ему хотелось облегчить их судьбу своим творчеством. По приезде на Дон в 1924 году он уже ни о чем больше и не помышляет. Устанавливается строгий распорядок рабочего времени: писал до поздней ночи, просыпался по-крестьянски рано – вместе с солнцем. В дни поездки на рыбалку или охоту – раньше. В семь утра – завтрак, в тринадцать часов – обед, в семнадцать – чай и в девятнадцать – ужин. Если засиживался за рабочим столом до четырех-пяти часов утра, все равно к семи был на ногах и садился завтракать. (После контузии в войну режим изменился.) В краткий срок он пишет книгу рассказов, вынашивает план большого романа.
В 1924–1925 годы (до начала работы над «Тихим Доном») Шолохов напишет двадцать один (из общего количества 25) рассказ и повесть («Путь-дороженька»).
Рассказы публикуются в газете «Молодой ленинец», альманахе «Молодость», в журналах «Огонек», «Прожектор», «Крестьянский журнал», «Смена», «Комсомолия», «Журнал крестьянская молодежь». Добавим, что рассказы выходят и отдельными изданиями в Госиздате, «Новой Москве», «Московском товариществе писателей», «Земле и фабрике», «Молодой гвардии», «Доне» (Сталинград), в «Библиотеке батрака» (приложение к газете «Батрак») и т. д. В 1926 году были напечатаны два сборника – «Донские рассказы» и «Лазоревая степь». Интересно, что из двадцати рассказов, вошедших в эти сборники, четырнадцать были опубликованы в 1925-м и лишь шесть в начале 1926 года. «Жеребенок», «О Колчаке, крапиве и прочем» в сборники «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» не включались. «Ветер», «Мягкотелый», «Один язык» выходили только в журналах, а рассказ «Обида», написанный в 1925–1926 годах, впервые опубликован в 1962 году. После публикации в 1931 году книги «Лазоревая степь. Донские рассказы. 1923–1925» ранние произведения Шолохова не переиздавались. И только двадцать пять лет спустя они были включены в первый том первого собрания сочинений.
Первые рассказы Шолохова как бы принадлежат сразу двум сферам, двум началам – воображаемому, измышленному и реальному. Иногда кажется, что юный автор медлит на пограничье. Память зовет в колыбельное лоно суровой действительности с ее жестокими законами, а предчувствие – к человеческой сущности: доброте, сочувствию, искренности. Не поэтому ли во всем облике героев рассказов чувствуется внутренняя противоречивость, по тем временам кажущаяся даже абсурдностью, некоей недосказанностью. Перо писателя наметило главное, сторонясь второстепенного – подробностей и деталей. Поэтому многое кажется сработанным наспех, непрочно.
Человеческая простота героев покоряет своей свежестью и жизненностью. Перо скользит легко и быстро. Отсюда – столь незамысловатые, но такие убедительные образы, а некоторые как бы изваяны с языческой смелостью. Так и хочется назвать их куском первозданной природы, точнее, ее пробной моделью.
Будто впервые осуществился принцип искусства. Впервые – этим все сказано и все оправдано. Вот почему в некоторых образах рассказов не всегда можно отыскать внутреннюю глубину, отточенность и завершенность. Главное – выразить сущность, пока важна суть, родившаяся мысль и память.
Но вот что знаменательно: в этих рассказах заявлен новый взгляд – главное в жизни: человечность, доброта, а не классовая жестокость и ненависть. По тем временам это было явное отступление, отход от складывающейся литературной традиции. В рассказах Шолохова (особенно 1925–1926 годов) чувствуется дыхание здоровой жизни, с их страниц встает настоящий человек и заявляет о своем праве созидать, творить добро, чувствовать и любить.
Разумеется, автор рассказов не мог (да и не хотел!) избежать показа яростного противостояния двух сил, изображения революции разрушающей и революции защищающейся и людей в этой страшной коловерти, где уже невозможно было определить, кто прав, а кто виноват. Однако ему абсолютно чужда поэтизация жесточайшей и небывалой борьбы не на жизнь, а на смерть, которой – увы! – отдали дань солидные, скажем так, литераторы. Характерно, что шолоховские персонажи исходят в своих поступках из конкретных обстоятельств, а не из абстрактной идеи, даже если эти поступки направлены против жизни человека. Бодягин выносит отцу смертный приговор за саботаж и идет на смерть, спасая мальчонку («Продкомиссар»); Шибалок казнит свою фронтовую подругу, повинную в гибели отряда, и спасает ребенка; беспощадный к бандитам батрак Алешка лег животом на гранату, когда из осажденного дома, где засели враги, вышла женщина с ребенком… Люди измучены бедами и ожесточены (со страниц рассказов как бы стекает кровь), но там, в глубинах их сердец, лазоревым цветом полыхает нежность и не угасает вера.
Читать дальше