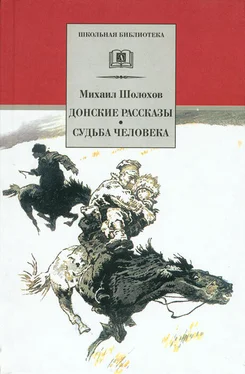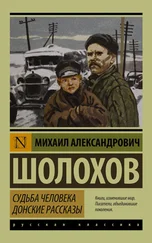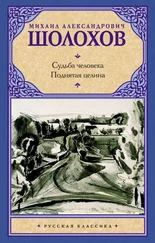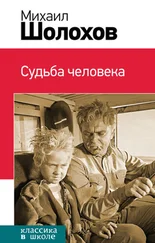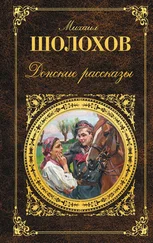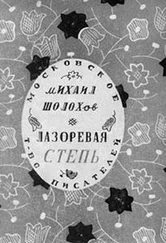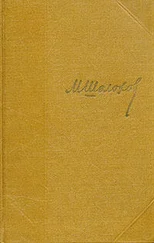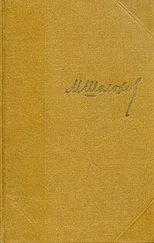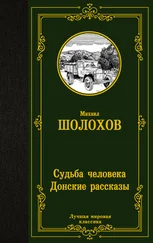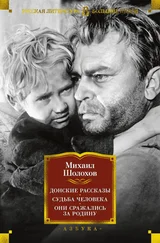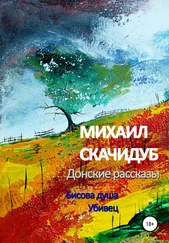Откуда черпал силы этот юноша, пробиваясь сквозь толстый слой материальных недостатков, ограниченных возможностей и высокомерия столичных интеллектуалов? Способен ли кто-нибудь после леденящих мозг и сердце потрясений, вызванных двумя смертными приговорами, сохранить присутствие духа, не утратить любовь к жизни, чувство доброты и восхищение красотой мироздания? Над всем этим впору задуматься. Не все тут лежит на поверхности, но без этого не уразуметь по-настоящему очарование и философскую глубину его творений. А какие внутренние терзания и боли должен преодолеть человек, видя торжество зла и несправедливости в окружающем мире! Как им противостоять и не дать заглушить природный дар, способный творить в недосягаемой высоте поэтического вдохновения?
Не дай бог родиться такому человеку в годину смуты и не встретить родственную душу, преданное сердце… К счастью, судьба одарила Шолохова на всю жизнь великой радостью. В станице Букановской, в которой чуть не оборвалась его жизнь, он встретил в 1922 году Машу Громославскую, да на этом и закончилась его холостяцкая воля.
* * *
Литературно-общественная действительность первых послереволюционных лет – процесс сложный и противоречивый. Крупные события мировой истории находят свое отражение в многослойной структуре общественного бытия. Под влиянием социалистической революции произошли коренные сдвиги во всем мире, и, естественно, в сфере культуры. История развивается по своим собственным законам. Можно было защищать новый строй или бороться против него, проклинать, клеветать либо пытаться занять созерцательную, нейтральную позицию, но делать вид, что ничего не произошло, – этого никто не мог. События 1917 года обнажили все концы и начала, столкнули старое и новое, прогрессивное и реакционное, поставили общество (в том числе деятелей искусства и литературы) перед неизбежностью выбора: «за» или «против». В литературно-художественной среде произошел глубокий раскол: вчерашние друзья оказались по разные стороны баррикад.
Молодая литература заметно набирала высоту. Правда, в этот период она еще не избавилась от односторонности взгляда: в революции писатели видели только лишь героику, в ее кровавой купели – храбрость, в жестокости – проявление пролетарского гуманизма. Часто личность, с ее страданиями, болью и отчаянием, оставалась вне поля их интереса, а бедствия народа преподносились под знаком торжества классовых интересов. Повесть Федора Гладкова «Огненный конь» (1922) – один из примеров подобной литературы. Разрушения, смерть – вот предмет ее романтического пафоса. Большевику Никифору Гмыре, председателю ревкома, так представляется цель революции: «…Не к смерти идем путиной этой, а к жизни… К жизни через смерть… Через страдания и муки – к радости человеческой… Хорошо!.. Хорошо нести крест борьбы… муки революции… до власти на всей земле… Наша власть… власть труда! В огне – сила земли… в крови огнедышащей… И наш великий бунт в огне и крови…» Он так и поступает. Как и комиссар бронепоезда матрос Глоба: «…K делу, земнородный! Будем идти по путям, проложенным силой, стоящей выше нас… через кровь… через смерть… через трагедию… Отравить каждую клеточку мозга кровавой грязью. Пострадать, потрясти землю… и погибнуть…»
И таких сочинений было много. Дело, однако, не в количестве, а в тенденции, которая угрожающе крепла. Бесспорно, трудное было время, со всех сторон охваченное пламенем революции. Нелегко было писателю разобраться в клубке дьявольски запутанных событий. Наиболее талантливые вышли из горнила революции чистыми и честными, но что-то утратили от душевной теплоты, от глубокого взгляда на действительность. И было бы неверно слишком строго судить их искренние заблуждения и замедленное восприятие новых начал жизни.
Постепенно намечался перелом в художественном методе литературы. Первые значительные изменения происходят после «Сорок первого» Бориса Лавренева, романа Александра Серафимовича «Железный поток» и рассказов Михаила Шолохова («Чужая кровь», «Лазоревая степь»). Они не только отражают сложные противоречия своего времени, но и как бы разрывают замкнутый круг личной вины каждого за царящие вокруг насилие и произвол и рассматривают человека в широком плане: в связях с обществом, в мечтах о мирном труде, в интимных рамках, горестях, то есть в тех формах бытия, которые формируют сознание и определяют действия личности. Они проникнуты жизнеутверждением, полны напряженных исканий. Человеку, показывают они, осточертела вся эта затянувшаяся кровавая игра в «революционную романтику», и он потянулся к мечте и земле, к станку, к книге.
Читать дальше