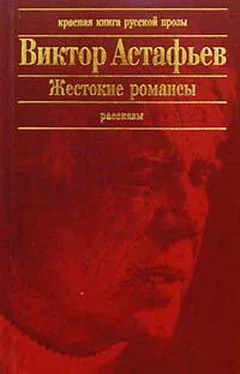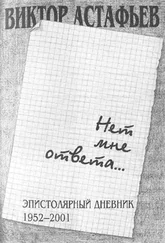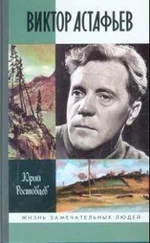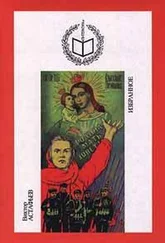В самом углу лога, тонко залитого водой, где пену и сор кружило шалым горным потоком, свежее мелкотравье кипело от икряной сороги, и мужик с парнем затеяли черпануть рыбу сеткой, а девочка не понимала их намерений, плакала и заклинала: «Папочка, не утони! Миленький папочка! Не утони! Ой, папочка! Ой, папочка!..»
Зарыбачили сорогу мужик с парнем или нет? Дошли до вершины лога или запутали и порвали сеть о коряги — мальчик не запомнил. Но девочка в синем платье, с букетом диких ирисов, растущих за логом, возле муравейника, залитая слезами, повторяющая неведомое в селе, такое смешное, непривычное, но чем-то к добру и ласке располагающее слово: «папочка», — заняла в сердце мальчика свое вечное место и всю жизнь являлась ему вместе с теми подробностями, которые задели его глаз, слух и укатились в глубину памяти: грязная сверху льдина, истекающая капелью и стеклянно роняющая звонкие карандашики на землю; вода, ревущая в устье лога и смывающая рыхлый яр; корова, переставшая жевать и тупо уставившаяся на рыбаков; пастух, козырьком приложивший руку ко лбу и тоже наблюдавший за рыбаками; боярка, мохнато цветущая над головой девочки; шмель, спутавший голову девочки с белым цветком и шарившийся хоботом в пушистых ее волосах, и застрявший в горле мальчика крик: «Акусит!»
Девочка приехала в село с родителями, отец ее брал подряды на выжиг известки. Поселилась семья по соседству с подворьем мальчика. Само собой, девочка стала набиваться в ребячью компанию, да не было у нее ни кукол, ни игрушек, только синее застиранное платье было и розовая линялая ленточка в пушистой растрепанной голове. Девочка собирала камешки на берегу, дышала на них, облизывала и показывала всем, какие они красивые! Деревенские ребятишки не умели понимать красоту, их окружающую, тем паче красоту камней, которые они топтали, прогоняли девочку, называя «шкилетиной». Опустив голову с бантом, девочка уходила за лог, собирала разные цветы и, сплетая венки, прилаживала их на голову. А всем известно: ребенок, примеряющий на голову венок, — недолгий житель. И все время девочка пела нездешние, очень красивые и жалостные песни. Песнями своими жалостными, непротивлением злу и роковыми, ангельски-небесными этими венками проняла девочка деревенские стойкие сердца. «Злосчастная, видать», — вздохнули сочувственно, по-бабьи, деревенские девчушки и приняли пришлую играть в «тяти-мамы».
Мальчик сразу, конечно, сообразил: быть ему «тятей» приезжей девочки — такой же он тощий, хворый, «злосчастный» такой же — и оказал сопротивление, отверг «шкилетину» наотрез. Оставшись бобылкой, девочка не знала, как ей дальше жить, потому как без «тяти» никакой женщине существовать на земле невозможно. Мальчик был хоть и поперешный, но жалостливый, тиранить человека долго не мог. Крякнув для солидности, он наказал хозяйке, чтоб она все по дому спроворила и блюла себя, не то… а сам взял литовку — обломок бутылочного стекла — и отправился «на сенокос», и наметал стог «сена».
Девочки хозяйничали в заброшенном срубе, который в каждой российской деревне оставлен бывал кем-то, ровно бы нарочно для пряток и разных детских игр и забав. Дожидаясь с работы «самово», хозяйки стряпали оладьи и шаньги из глины, гоношили постели из травы. Мальчикова «мама», ошалелая от счастья, выявила такое проворство в делах, что все девчушки ахали и подсмеивались, мол, хозяин не под стать хозяйке, хил, невзгляден и «ни шерсти от него, ни молока». «Ну и что? Ну и что? — заступалась за своего „тятю“ хозяйка. — Зато смиренный, воды не замутит!.. И не пьющий по болести».
Треснуть бы самое за такие слова, но, обретая власть, девочка проявила неслыханный напор и в такой оборот взяла мальчика, что ни дыхнуть, ни охнуть, и покрепче «мужик» спасовал бы. Она не давала «мужу» делать тяжелую работу, заставляла отдыхать и набираться сил, а, сама, костлявая, легкая, стремительно носилась по земле, управлялась со скотом, доглядывала ребятишек, кышкала коршунье — и все с песнями, с песнями, со смехом, с шутками. Зато как торжествовала подруга жизни мальчика, когда возвращались домой «тяти» других «мам». Не в силах переступить порог, шатаясь и падая, они ревели чего попало, требовали еще выпить, домогались, чтоб обнимали и утешали их в этой распроклятой жизни.
Всплескивая руками: «Я-а-ави-и-ился-а-а, красавец ненаглядный! — девчушки набрасывались на своих „красавцев“. — Ковды ты, кровопивец, выжрешь всю эту заразу?! Ковды околеешь? Ковды ослобонишь меня, несчастну-у-у! Да чтоб тебе отрава попалась заместо вина! Гвозди ржавые заместо закуски!» При этом «мамы» целились накласть по загривку «мужьям», а те ярились: «Игде мое ружье? Игде моя бердана семизарядна? Перрыстр-реляю всех, в господа бога!..»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу