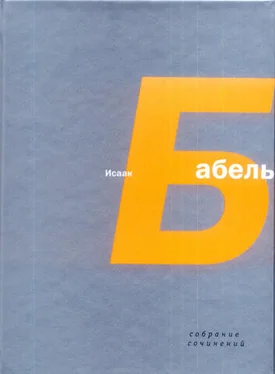(Истинное происшествие)
Александра Федоровича Керенского я увидел впервые двадцатого декабря тысяча девятьсот шестнадцатого года в обеденной зале санатории Олила. Нас познакомил присяжный поверенный Зацареный из Туркестана. О Зацареном я знал, что он сделал себе обрезание на сороковом году жизни. Великий князь Петр Николаевич, опальный безумец, сосланный в Ташкент, дорожил дружбой Зацареного. Великий князь этот ходил по улицам Ташкента нагишом, женился на казачке, ставил свечи перед портретом Вольтера, как перед образом Иисуса Христа и осушил беспредельные равнины Аму-Дарьи. Зацареный был ему другом.
Итак — Олила. В десяти километрах от нас сияли синие граниты Гельсингфорса. О, Гельсингфорс, любовь моего сердца. О, небо, текущее над эспланадой и улетающее, как птица.
Итак — Олила. Северные цветы тлеют в вазах. Оленьи рога распростерлись на сумрачных плафонах. В обеденной зале пахнет сосной, прохладной грудью графини Тышкевич и шелковым бельем английских офицеров.
За столом рядом с Керенским сидит учтивый выкрест из департамента полиции. От него направо — норвежец Никкельсен, владелец китобойного судна. Налево — графиня Тышкевич, прекрасная, как Мария-Антуанетта.
Керенский съел три сладких и ушел со мною в лес. Мимо нас пробежала на лыжах фрекен Кирсти.
— Кто это? — спросил Александр Федорович.
— Это дочь Никкельсена, фрекен Кирсти, — сказал я, — как она хороша.
Потом мы увидели вейку старого Иоганеса.
— Кто это? — спросил Александр Федорович.
— Это старый Иоганес, — сказал я, — он везет из Гельсингфорса коньяк и фрукты. Разве вы не знаете кучера Иоганеса?
— Я знаю здесь всех, — ответил Керенский, — но я никого не вижу.
— Вы близоруки, Александр Федорович?
— Да, я близорук.
— Нужны очки, Александр Федорович.
— Никогда.
Тогда я сказал с юношеской живостью:
— Вы не только слепы, вы почти мертвы. Линия, божественная черта, властительница мира, ускользнула от вас навсегда. Мы ходим с вами по саду очарований, в неописуемом финском лесу. До последнего нашего часа мы не узнаем ничего лучшего. И вот вы не видите обледенелых и розовых краев водопада, там у реки. Плакучая ива, склонившаяся над водопадом — вы не видите ее японской резьбы. Красные стволы сосен осыпаны снегом. Зернистый блеск роится в снегах. Он начинается мертвенной линией, прильнувшей к дереву, и на поверхности, волнистой, как линия Леонардо, увенчан отражением пылающих облаков. А шелковый чулок фрекен Кирсти и линия ее уже зрелой ноги? Купите очки, Александр Федорович, заклинаю вас.
— Дитя, — ответил он, — не тратьте пороху. Полтинник за очки, это — единственный полтинник, который я сберегу. Мне не нужна ваша линия, низменная, как действительность. Вы живете не лучше учителя тригонометрии, а я объят чудесами даже в Клязьме. Зачем мне веснушки на лице фрекен Кирсти, когда я, едва различая ее, угадываю в этой девушке все то, что я хочу угадать? Зачем мне облака на этом чухонском небе, когда я вижу мечущийся океан над моей головой? Зачем мне линии — когда у меня есть цвета? Весь мир для меня — гигантский театр, в котором я единственный зритель без бинокля. Оркестр играет вступление к третьему акту, сцена от меня далеко, как во сне, сердце мое раздувается от восторга, я вижу пурпурный бархат на Джульете, лиловые шелка на Ромео и ни одной фальшивой бороды… И вы хотите ослепить меня очками за полтинник…
Вечером я уехал в город. О, Гельсингфорс, пристанище моей мечты…
А Александра Федоровича я увидел через полгода, в июне семнадцатого года, когда он был верховным главнокомандующим российскими армиями и хозяином наших судеб.
В тот день Троицкий мост был разведен. Путиловские рабочие шли на арсенал. Трамвайные вагоны лежали на улицах плашмя, как издохшие лошади.
Митинг был назначен в Народном Доме. Александр Федорович произнес речь о России — матери и жене. Толпа удушала его овчинами своих страстей. Что увидел в ощетинившихся овчинах он, единственный зритель без бинокля? Не знаю. Но вслед за ним на трибуну взошел Троцкий, скривил губы и сказал голосом, не оставлявшим никакой надежды:
— Товарищи и братья…
Прелестная и мудрая жизнь пана Аполека ударила мне в голову, как старое вино. В Новоград-Волынске, в наспех смятом городе, среди скрученных развалин, судьба бросила мне под ноги укрытое от мира Евангелие. Окруженный простодушным сиянием нимбов, я дал тогда обет следовать величественному примеру пана Аполека. И сладость мечтательной злобы, горькое презрение к псам и свиньям человечества, огонь молчаливого и упоительного мщения — я принес их в жертву новому обету.
Читать дальше