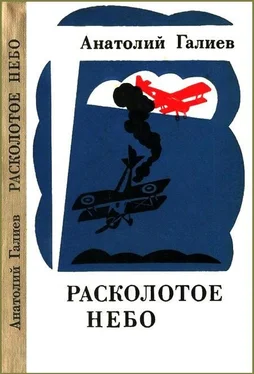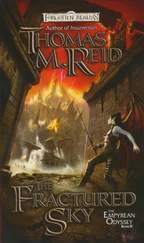Часов до пяти вечера Щепкин и Кондратюк успели слетать три раза. Смотрели сверху. Верстах в трех на западе подковой стояли, врывшись в землю, над оврагами четыре полные батареи полевых орудий, более пяти сотен казачьей конницы, белая пехота. Офицерские части, наступавшие со стороны Царицына, поддержанные бронепоездом, ждали, когда к ним прижмут красных.
Щепкин сказал Глазунову, чтобы как можно быстрее тащили бомбы и все, что положено для штурмового удара. Глазунов засомневался: «фарман» поднимал слишком малый вес, стоит ли рисковать из-за пары десятифунтовок. Пусть лучше Кондратюк, который летал на этот раз стрелком, возьмет лишний магазин для «льюиса».
— А он не полетит, — сказал задумчиво Щепкин, почему-то глядя с интересом на Афанасия.
Казачонок от худой кормежки был тощ. Вялая былая медлительность, плотная его коренастость улетучилась: стоял исхудавший, злой, рубаха висела как на жердочке, несуразно большими, по сравнению с туловищем, казались всклокоченная чубастая голова, черные от машинного масла кулаки, босые ноги. Глаза словно выцвели до прозрачной желтизны, нос лупился, торчал остро на истощенном, черном от загара лице.
— Сколько он весит? — сказал Щепкин. — Пустяк! А у Кондратюка полный вес со всеми бебехами около шести пудов. Соображаешь, какая разница? С ним я могу взять пуда два бомб… И жестянки твои он спокойненько пошвыряет!
— Ты что, очумел?
— Делов-то… — сказал Щепкин.
Про себя он решил: обрадуется, запрыгает Афоня — не возьмет, поведет серьезно — тогда посмотрит.
— Ну что, Афанасий Дмитрич, полетишь бомбардиром? — сказал он.
Афанасий подумал, посмотрел на Глазунова, на небо, сказал серьезно:
— Ветра сильного нет, не укачает… Если надо, что ж! Могу попробовать. Только привяжите меня покрепче.
Кондратюк покачал головой:
— Чудишь, Щепкин. А как с землюки огонь откроют? Он же хлопчик!
— Сказано — лечу! — хмуро буркнул Кондратюку Афанасий. — Чего хлеб ваш напрасно ем? Надо так надо.
На Афанасия напялили шлем, очки, кожаную тужурку Кондратюка, пристегнули к сиденью лицом к хвосту. Спиной к нему поместился Щепкин. Четыре десятифунтовые бомбы лежали в полотняных сумках, под ноги навалили множество дырявых жестянок. Глазунов сунул в руки Афанасию плоскогубцы, аж побелел от волнения.
— Ты, того, парень, не осрамись!
Тыча в бомбу с крыльчаткой на носике, объяснил:
— Возьмешь плоскогубцы, отогнешь контровую пластинку, освободишь ветрянку ударника! Не задень ничего, иначе рванет прямо у тебя в руках! Держи крепче, перегнись за борт и сильно откинь. Понял?
— Чего понимать? — хмуро сказал Афанасий. — Не маленький. Видел, как Щепкин на пустой бомбе тренировался. С крыши дачки в песок кидал. Еще Балабана учил!
Балабан смотрел на Афанасия с завистью и бормотал:
— И чего я такой тяжелый!
Щепкин сказал:
— Слышь, герой! Бросать будешь, когда я тебя вот так толкну. — Он саданул Афанасия в спину локтем. — А вот так — это приготовиться. — Он потрогал Афоню за плечо.
— Чего уж!
«Фарман» затрясло, покатили на взлет. От мерного треска мотора Афанасия сначала вроде бы даже в дрему кинуло. Но свежий острый ветер толкался со всех сторон, щипал щеки. Перед Афанасием, сидевшим лицом к хвосту, чадил стоячий мотор, сиял круг винта, качалась решетчатая ферма, хвостовые, обтянутые перкалем рули выгибались от напора воздуха, как парус.
Чуть привыкнув, Афанасий огляделся и даже задохнулся от красоты. На желтой земле внизу, как зеркала, блестели сухие солонцы, синяя тень от аэроплана прыгала по ним. Воздух был чист и прозрачен, как хорошо промытое окно. Весь мир разом раздвинулся, стал свободным и огромным. К горизонтам земля бурела, по линии окоема стояли белые, высокие, как башни, облака. В прозрачном просторе дышалось легко, пыль, гарь, дым остались внизу. Только иногда сладко и тошнотворно доносило запах выхлопа.
Афанасий забыл, зачем летит. В первый раз за все это время в душу, не тронутую испугом, как тогда, когда летел в первый раз, вонзилось сладостное, пьянящее ощущение полета. «Фарман» дрожал, как рысак на хорошем скаку, время от времени его подбрасывало воздушными токами, и тогда сердце на миг замирало, как на санках, когда летишь с крутого берега, весь в снегу, на лед реки и швыряет тебя куда-то в небо. Ах, хорошо!
Чудные звуки заставили Афанасия отогнуть ухо шлема. Он не понял сначала, откуда они идут: потом разобрал. Воздух пронизывал дырявые жестянки, сваленные под ногами, насвистывал в них, как на флейте. Жестянки пели по-разному, то низким, гудящим басом, то тонкими, нежными голосами. Целый оркестр, лучше духового — вот смех!
Читать дальше